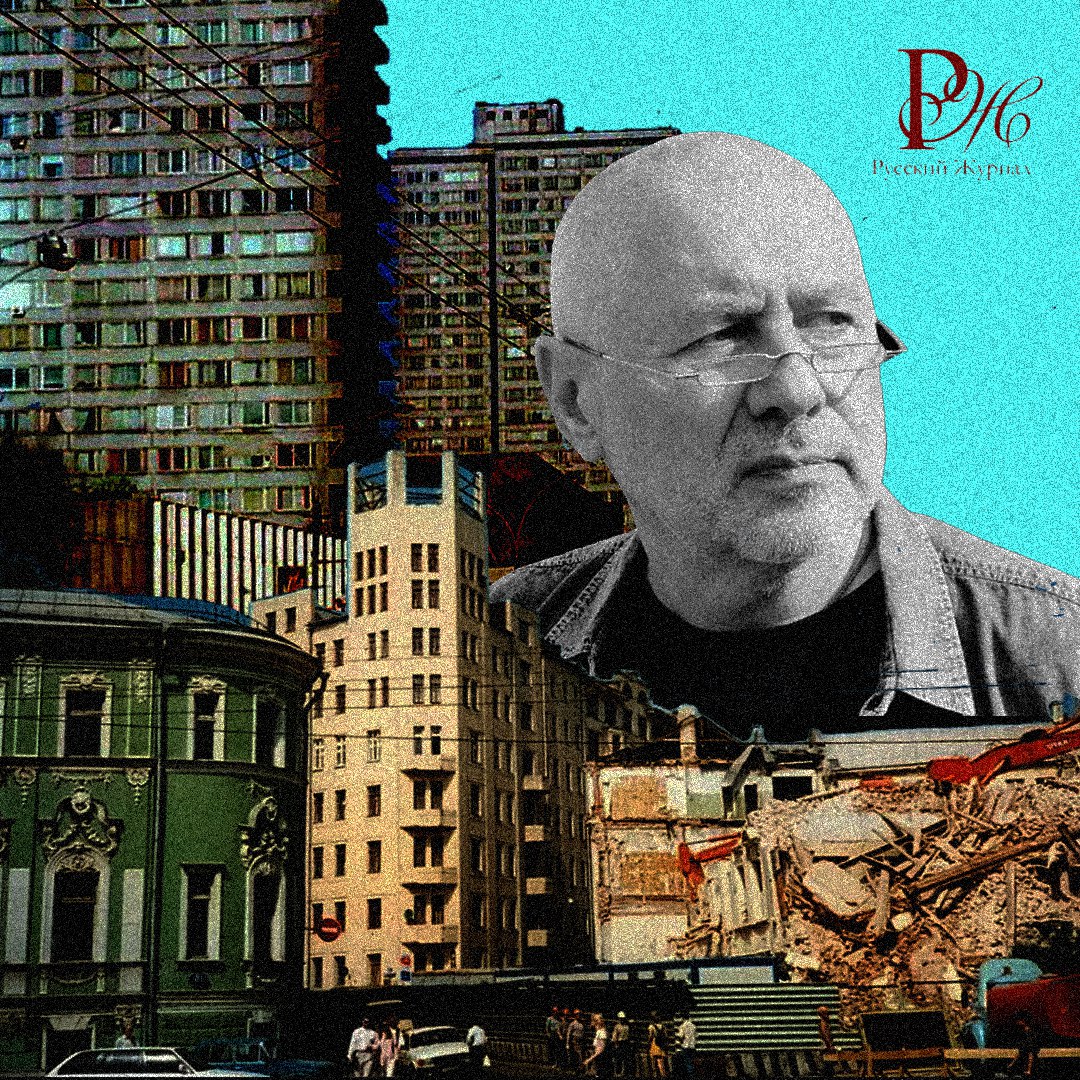Мемуар
1
Опыт РЖ, как почти все политические опыты последних 25–30 лет, — это, конечно, опыт поражения. Но поскольку провал образует самый важный сегодня интеллектуальный предмет — величественная анфилада засад, тупиков и перверсий, в особенности ложных выводов, — то чего стесняться? Рвануло! Хотя не скажешь вслед старому дипломату «Блажен кто посетил...», но масштабы катастрофы действия и катастрофы интеллектуальной столь велик, что иногда кажется, таким можно гордиться. Мы опять — и в этом «мы» негде спрятаться оно также разнообразно у каждого, также уникально как общее «мы», что иногда хочется верить, будто по завету Тургенева, что такие ужасные поражения даруются истинно великим народам. Впрочем, дар поражения — возможность, а не подарок, и народ может его, устрашившись, не принять.
2
«Русский журнал» задумывался на выходе из предыдущего поражения, которое также казалось нам колоссальным. Но отличие в том, что прошло уже несколько лет отчаяния и жалких попыток выплыть, и казалось, будто теперь-то мы искушены — и умом, и болью. Для меня изменение состояло прежде всего в том, что я к середине девяностых зарёкся быть публицистом. Такой парадокс: решив действовать «в реальном мире» и закрыв свой любимый тоненький «Век XX и мир», я неожиданно придумал «Русский журнал» (в начале 1995). Это решение было не продолжением, а вызовом сопротивления, если угодно — экспансией.
Если бы не Марик Печерский, я бы на это не решился. Мой бесценный друг в прошлой жизни, с которым я познакомился у Гефтера «на флэту»: под диванчиком, на котором обычно ночевал, приезжая в гости, я обнаружил текст, написанный как будто мной. Определённо мной, но определённо не я писал этот текст. В то же время я знал, что никто в Москве не стал бы и не мог бы так писать.
Оказалось, что неподалеку от Гефтера, на таких же птичьих правах «молодого друга», обитал, как и я, некий харьковчанин. К середине девяностых он уже данным-давно уехал в Сан-Франциско. Мы ненадолго восстановили старую дружбу, а тут умер Гефтер. Марк сказал, что Билл Гейтс намерен создать интеллектуальный журнал в интернете (журнал Slate вскоре действительно состоялся). Меня завела идея сработать на опережение, и я немедленно взялся за собственный. Имя проекту тоже дал Марк: Русский журнал. Поскольку стараниями Сергея Чернышёва Русский институт к этому времени возник, я нашёл в этом забавную рифму.
3
Эти припоминания сегодня не значат ничего. Ведь мы с Марком и Гефтером жили в совершенно другой Вселенной. Во вселенной непрерывности русской истории, — фрагментарной, конечно, это мы знали — лишённой академической цельности. Но то был континуум насчёт судьбы которого мы сильно не беспокоились, мы были в ней. Мы знали, что этот континуум часто рвётся страшным образом, но рвётся вторжением других поворотов, иных мелодий: туннель туннелей, хотя слово «мультиверс» мы тогда не знали. Я родился в этом континууме, в нём ходил на школьный праздники и демонстрации, в нём рассорился с государством и сел… и всё-таки раскола я не знал. Сюжет был един, он продолжался. Несовместимые имена Столыпина, Ленина, Пушкина, Желябова, Пастернака — все они были синонимы. Синонимы длящегося сюжета, о котором ты и в унынии знал, что его никому и ничем не остановить. А теперь его нет.
Мы обитали в расширяющейся русской Вселенной, ведущей начало от катастрофы невообразимых масштабов. Ну, собственно, и современная нам космофизика говорила о том же: вначале был Большой Взрыв. Впервые читая самиздатского «Доктора Живаго» в 1971 году, я про себя часто благодарил судьбу, избавившую меня от необходимости быть буквальным современником Большого Взрыва. Но что было то было — и Революция, и Война были в прошлом, а нам оставалось иметь дело с государством, возникшем из той и второй. Но это была достойная задача, я ей гордился. Даже при спазмах уныния и безнадёжности я знал, что сюжет иногда можно потерять из виду, но он есть, он не может пропасть. Наслаждаясь политическим стилем Андрея Амальрика в «Просуществует ли СССР до 1984 года», я испытывал переживания схожие с хоррором: конечно, может случиться всё что угодно, но это случится внутри великого сюжета русской истории. Со мной, но не с ней. Мысль о том, что могут пропасть они оба, Родина и история, в один день, не приходила в голову.
Когда случилось то, что случилось в 1991 году, необходимо было время, чтоб привыкнуть к утрате. Это время я прожил с Гефтером очень близко и не знаю, как прожил бы без него (об этом я рассказал в «Экспериментальной Родине» и особенно в «Слабых»). К середине девяностых ужас мёртвой истории начинал проходить. Я запрещал себе жалеть о потере и даже думать о ней. В то же время задача собирания выживших и постройки российского плотика для всего, что осталось от великой эпохи, стало казаться достойной целью — «не мне, не мне, но Имени Твоему».
4
Ещё в начале Перестройки я стал догадываться, что мне предстоит стать свидетелем чего-то необъяснимого в рамках той русской истории, которую я себе представлял. Само по себе предательство либералов и класса образованных не было неожиданностью, я к нему был готов, был предупреждён Михаилом Гефтером. Но формы этого предательства не могли быть уловлены одним морализмом. Уже с конца 1970-х годов вырисовывалось нечто странное именно в нашем способе обращаться с историческим опытом, и эта странность вышла наружу при ослаблении и отмене цензуры. Моя первая статья в ещё подцензурной советской прессе называлась «Свобода помнить», и она уже была полемична. Пунктир вёл к будущему моему «Беловежскому человеку», существу, которое мгновенно забывает свой вчерашний выбор, а затем чистосердечно попирает его. Этот человек может стать любым буквально, либералом или эсэсовцем. Я понимал, что это страшно, но я недостаточно боялся этого — казалось, что этический и интеллектуальный, культурный импульс русской истории достаточно мощен, чтобы пересилить любую измену себе. Это было ошибкой, конечно.
В России любая новизна, мгновенно забываясь, не становится прошлым — и оттого не проходит. Она возвращается снова, но форма её возврата не несёт следов прежнего опыта, форма молчит и об опыте возникновения, и об опыте успеха, и о провале. Прежнее, так и не став прошлым, восстаёт однажды «невиновным», как эксгумированный труп убитого. Отсюда надрывная матрица действия — всегда неуверенного, всегда склонного к эскалациям.
5
Интеллектуальная криминализация современности (Гефтер называл её «русской тягой к самообвинению») базируется на криминализации русских XX века, начиная с Революции 1917 года. Впрочем, в большинстве рефлексий вы заметите желание избежать самого упоминания революции — слишком явного свидетельства аномальной России. И, конечно, советского человека принято изображать, как социально нездорового. Homo soveticus приравнен то к «лагерному человеку», то к «человеку блатному». Советский человек не рос в нормальной семье и не учился в нормальной школе. Он ничего не знал о нормальном мире и «нормальных ценностях». Советский человек ненормально работает, ненормально ест да практически и не живёт вовсе. Неудивительно, что такая криминальная особь преобразуется в постсоветского Чужого, мучая благородные умы постсоветских реформаторов и либералов.
Тем временем стилем публичной речи на переходе от девяностых к нулевым стало похохатыванье, восприятие всего не всерьёз. Названия вещей превратились в литературные приёмы злоупотребления пафосом: «абсурд режима очевиден даже ребёнку» либо «посягательства глобализма на земли Родины разоблачены».
Российская публичность сталински подменила вопрос об авторстве вопросом о виновнике. Вопрос об авторстве заменили сыском злодеев, что разрушило интерес к историческому опыту. Даже благо преступной вины утратили, отнеся на чужой счёт. Неудачниками признавали себя сами современники, а не критичные их потомки. Многие из тех, кто в Союзе и в РФ пробовал было обрабатывать русский опыт, бросали свой труд и отворачивались от опыта, от его предмета с омерзением, тем более трудно было другим воспринять отброшенное как своё, продолжить героическую работу с замаранным. Одного самоосуждения для этого мало — нить опыта прервалась отсутствием его обследования. Язык одичал, привыкнув отнекиваться, браниться, молчать.
6
Эта утопия середины девяностых, наверное, заслуживает того, чтоб её обдумать и рассказать. Конечно же, думалось, Россия ещё будет великой, но когда и как — мы не знаем. А сейчас важна ёмкость для русского, ёмкость достаточная, чтобы компактно разместить в ней главные компоненты опыта. Естественно, сперва его надо обработать, ревизовать, а потом разместить. Мы много обсуждали это с Сергеем Чернышёвым, а Симон Кордонский над нами ядовито посмеивался. Меня мотивировала с детства влекущая история двух друзей Боэция и Кассиодора во времена королевства лангобардов. Заводил пример Кассиодора, который сумел создать компактную версию римской культуры — тривиум и квадрививиум и обучения ей. Проект Кассиодора копировал античных классиков силами десятков полуграмотных монахов-переписчиков монастыря Скрипториум.
Задача превращения убогой Российской Федерации, страны-выкидыша, случайно найденной среди разлетающихся обломков СССР, целиком завладела мной. Но ведь, в сущности, речь шла скорей о создании тары, государственной и политической тары для ресурсных обломков советского? А что станет содержанием этой колоссальной пародии на Скрипториум Кассиодора? И кто эти монахи-латинисты, кому они молятся? Всё это казалось тогда более простым. Монастырь Кассиодора стоял в королевстве Теодориха, тогда как друг Боэций, пытавшийся вернуть в Рим имперскую политику , поплатился жизнью на лангобардской гарроте. Странно, но мне не приходило в голову, что моя увлечённость изобретением политических форм неминуемо превращает их в истинное содержание проекта. Виртуальный монастырь-хранилище универсальных ценностей истории спонтанно не возникает — и постепенно форма власти вытесняла вопрос о её содержании.
РЖ мыслился поначалу как инструмент создания содержаний, дебатов о них и свободной игры с ними. Но Фонд эффективной политики всё более поглощал меня, поглощал целиком. Строить спасательный модуль русской власти было увлекательней и казалось более срочным. Уже к концу девяностых я перестал интересоваться тем, кто именно заселяет наш модуль. Кого мы спасаем и с чем берём их на борт? Последнюю попытку раздвинуть ёмкость проекта РЖ я сделал в виде так называемой бумажной версии сетевого РЖ — журнала «Пушкин» (поначалу чуть было не названного «Идиот») — и инкорпорировав в «Русский журнал» команду «Журнального зала» Сергея Костырко. Но 1999 год захватил меня полностью, на десятилетия втянув в путинскую воронку.
Я закрылся от ответственности в РЖ за тандемом Марка Печерского и Елены Пенской. Этот тандем оказался конфликтен, зато породил ещё один проект – квартальник ИФ, интеллектуальный форум. Его номера ценны для меня элегантными и просвещёнными эссе Марка, но и они останутся архивистам постсингулярности как знак эпохи между первым и вторым Большими Взрывами.
7
Мы были, были и сим проиграли. Риск в России онтологичен, гностичен: ты не просто терпишь неудачу — ты проваливаешься в изначальное зло. Гефтер говорил о модели русских Атлантид: Будущая Атлантида не стоит на основании прошлой. Наоборот, её учреждает самозванный трибунал над историей. Судьи судят не прошлое (понятое верно либо неверно). Они судят воображаемое историческое преступление — убийство и затопление прошлой Атлантиды. Экспертные лагеря силами передовых публицистов, подобно сталинским, переполнены героями русского прошлого. Русская история, как она представлена в российском ландшафте, — лагерь смерти, пенитенциар в окружении криминальных фавел с беглецами от бесконечных судов истории.
Писать по-русски сегодня стоит лишь то, за что попадёшь в тюрьму. Но ещё ценней, возможно, внезапное оглушительное молчание.