Странно, что Асаркан не задал этого вопроса раньше: “Как насчёт магнитофона, где вы записывали Зиновия Воаса — магнитофон этого вашего тайного ордена, Конгрегации, где он?” спросил он походя, на повороте к памятнику Пушкина и газетному киоску у здания “Известий”. Я сказал, что магнитофон есть, но он недоступен для гастролей вне дома Алика Меламида. Это был невыносимый магнитофон. Его нельзя было вынести из квартиры — штаб-квартиры Конгрегации. Это был храм. Это был храм Конгрегации. Впрочем, лишь номинально: в реальности это был храм родительской квартиры Алика Меламида.
Апартаменты на Ленинском проспекте были идеальными сценическими подмостками для деятельности тайного ордена, нашей пародийной идее псевдо-классики. Ты входил в грязный подъезд, поднимался на загаженном лифте, открывалась дверь, обитая чёрной кожей, и ты попадал из советской в викторианскую эпоху. Я родом из Марьиной Рощи, где мои родители делили квартиру с дядей Борей, отцом Лёни Глезерова; а Марьина Роща в сравнении с Ленинским проспектом — это как пролетарский Ист Энд в сравнении с небоскрёбами Доклендс. Я отчасти был юным снобом, и всякий раз поражался смесью трофейной роскоши и антикварных изысков: стиль ампир, блеск натёртого воском паркета, кожа диванов и кресел из антикварных магазинов, бамбуковые этажерки и ангельские завитушки настольных ламп, финтифлюшки из заграничных командировок и золочёные переплёты Диккенса и энциклопедий за стеклом книжных шкафов. Для придания готической атмосферы нашим заседаниям — зажигались свечи в бронзовых подсвечниках.
Так воспринималась эта квартира когда нам не было и двадцати. Снова посетив её десятилетиями спустя, приехав в Москву к родителям с визитом из Нью-Йорка, Алик увидел, по его словам, какую, в действительности, дешёвую ретро-рухлядь и подделку представляла собой эта мебельная роскошь. Но нам в юности было неважно, подделка эта или оригинал. Главное, что среди этих декораций иностранной жизни стояло чудо техники — магнитофон.
Магнитофон был в доме не у всех. В конце концов, магнитофоны появились в магазинах (вместе с пишущими машинками, породив самиздат) и даже я, после университета, стал собственником такой машины (и записывал на магнитофон Улитина, читавшего свои подборки). Но до середины шестидесятых такого магнитофона, как у Меламидов, я не видел ни у кого в Москве — это была одна из первых заграничных моделей, внушительных размеров ящик, с ручками, кнопками и нашлёпками из бакелита, пластмассы и дерева, шедевр американского дизайна свингующих шестидесятых. Получить такой магнитофон мог только привилегированный работник умственного труда, вроде Меламида-старшего, консультанта правительства по делам Германии. Брат Меламида-старшего, отец Лёвки Меламида, вывозил после войны всю, до малейшего винтика, ракетную технику нацистов из Берлина в Москву (оба брата выросли в Германии). Мой дед, Эммануил Глезеров, тоже учившийся в Германии, был заслан НКВД в предвоенную Литву, чтобы оценивать антирусские настроения в стране. Мой отец создавал первую советскую вычислительную машину. Отец Володи Иванова, одного из основателей Конгрегации, был ведущим журналистом-международником; это он и привёз из Лондона сувенирный блокнот авиакомпании В.О.А.С. (British Overseas Airspace Corporation) — английская аббревиатура, прочитанная как русские буквы, и породила нашего пародийного гитарного барда по имени Воас.
Об этих контактах наших родителей в верхах мы не задумывались. Мы жили в некой счастливой пустоте, окружённой твердью под названием Советская Власть. Она нас не касалась, мы до этих небес не дотягивались. Это была хорошо защищённая пустота, прозрачный, но крепкий пузырь, и заседания Конгрегации в квартире Меламида сопровождалось ощущением неуловимой лёгкости, невесомости, как будто в космической капсуле; лёгкость эта была связана, конечно же, с полной безответственностью.
Какими бы столпами режима ни были родители, как бы ни поддерживали они, как кариатиды, твердь советских небес, это не мешало нам жить за их счёт, обитать под их крышей и прибегать к их защите в моменты опасностей. Родители были богами в этом доме. На верхах шла война богов с титанами, до нас, безоружных героев, периодически доносилось эхо этих идеологических битв. Иногда мы слышали над головой олимпийский гром и горизонт заслоняли грозовые тучи, порой старшее поколение опасалось проливного дождя, потом Сталин умер, пришёл Хрущёв, небеса прояснились, оттепель, потом опять переменная облачность, и на лице консультанта правительства проявлялась озабоченность, но, в конце концов, и это устаканивалось. Всё это было частью фундаментальных основ бытия, которые принимались нами как данность. Мы не были похожи на конспираторов-подростков, замышляющих убийство родителей в романах Жана Кокто, или на героев Андре Жида, как в “Фальшивомонетчиках”, где молодое поколение воспринимает старших как марсианских чудовищ. Для нас родители существовали невидимо, где-то на Олимпе, где поизносились слова, вроде Политбюро и “Правда” (всегда в кавычках).
Мы все знали, что Даниила Ефимовича, отца Алика, в годы войны привозили на лимузине в Кремль, где он лично переводил Сталину речи Гитлера по радио. Сталин, оказывается, был одержим древнегреческими мифами, и его настольной книгой было популярное изложение древнегреческих мифов под названием “Что говорили древние греки о своих богах и героях”. Видимо, поэтому у нас в школе ни слова не говорилось про Библию, зато книга А. Н. Куна “Мифы древней Греции” заучивалась чуть ли не наизусть. Греческие боги были запечатлены в статуях, как вожди советского народа в городских парках. Сталина я впервые увидел в виде его бюста. И родители Алика Меламида были в нашем воображении бюстами и статуями.
Они двигались, эти статуи, говорили с нами, иногда через домработницу Шуру-оракула, издавали декреты и указы, мы действовали согласно их божественным законам, но они оставались для нас статуями, как гипсовые слепки в музее изящных искусств Древней Греции и египетских мумий имени Пушкина. Таково было и отношение древних греков к богам и героям. Древнегреческие боги были непроницаемы, где-то на Олимпе, но при этом все прекрасно знали, как боги выглядят — их внешность запечатлена в статуях, их черты характера увековечены в мифах. То есть, мы видели родителей, но, как бы сказать, в мифологическом аспекте. Посредником между нами и родителями была домработница Шура, которая подсовывала нам закуску во время наших пьянок и периодически комментировала происходящее язвительными репликами. Она была полной противоположностью нашей домработницы Клавы, когда мы жили в Марьиной роще вместе Лёней Глезеровым, моим двоюродным братом. Наша Клава говорила: “Назови меня хоть ночным горшком — главное чтоб меня любили”. Шура не требовала любви. Она требовала внимания к своим афоризмам. Когда кто-нибудь из нас слишком заходился в своей ненормированной лексике и разнузданном поведении, она пришпиливала его уничтожающим: “Транда козиная!” — и удалялась к себе на кухню, хлопнув дверью. Что такое “транда козиная” до сих пор окончательно не разгадано. С годами фигура домработницы Шуры стала для меня неким пародийным подобием Асаркана.
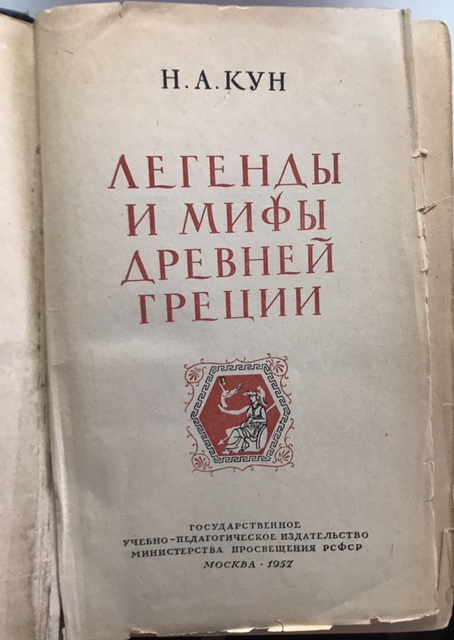
Комментарий Зиновия Зиника: "Это титульная страница из моей книжки школ них лет о Древней Греции"
Мы были марионетками в руках олимпийских богов. Никто из нас толком не смог бы сказать, в чём, собственно, макабрическая идея и цель тайного ордена у главы которого оказалась собачья кличка “Рекс” (Rex). Пьянство и хохот, да. Мы бунтовали. Мы пытались перестроить наше сознание так, чтобы переставать верить в божественную вездесущность родителей, указать на их гипсовую голизну. Мы постоянно пытались разными способами впасть в состояние бессознанки, когда веришь, что ты освободился от молчаливого диктата этих гипсовых статуй. Что нам оставалось, кроме как по-детски бессмысленно кричать от непонятной радости или загадочной боли? Мы записывали эхо собственных криков и жалоб — наш протест против греческих богов на магнитофон, этим богам принадлежащий. Сама магнитофонная запись — превратившийся в плёнку звук — вне зависимости от содержания создавала ощущение бессмертия.
Крутящиеся катушки коричневой ленты производили магическое гипнотизирующее впечатление. Прикоснуться к этой машине была страшно: всякий знал, что она увековечивает любой изданный тобой звук. С таким восхищённым ужасом туземцы глядели на фотоаппарат. Поражала сама возможность воспроизведения любого шума: пальцев, барабанящих по столу, перебора струн гитары, звука сморкания в платок, рыганья, зевоты, звонка в дверь, всхлипа и вопля, шелеста страниц, поцелуя и вздохов. Круженье вокруг магнитофона заканчивалось идиотическим хихиканьем. Пялились друга на друга, передразнивали по-обезьяньи. В тот раз на сборище Конгрегации, благодаря магнитофону, воцарилась атмосфера истерии.
* * *
От этой магической магнитофонной машины невозможно было оттащить ещё одного персонажа в жизни Конгрегации — Тайца. Никто не называл его по имени, я даже не помню имени, только смешную фамилию — Тайц, что-то среднее между Майнцем и зайцем. Казалось бы, я стал снова вспоминать Конгрегацию исключительно из-за сюжета с поиском магнитофона для выступления в квартире Айзенвальда. О Конгрегации я писал раз сорок по разным поводам. Общие детали хорошо известны. Конгрегация уже вошла в историю современного искусства как колыбель соц-арта. Сейчас я понимаю, что заговорил опять на эту тему из-за Тайца.
Я уверен, что мои мемуары можно будет в один прекрасный день переписать в роман (чтобы избавиться от какой-либо самоцензуры), а для этого будущего романа персонаж, вроде Тайца, необходим. Мне нужен персонаж, который всем смешон, которого третируют, обращаются с ним свысока, но одновременно его легко проэксплуатировать, приспособить его наивность под общие нужды, в своих целях. Тут, конечно, нельзя впадать в достоевщину. Но Тайц подошёл бы идеально на эту условную роль вторичности, подражательного по своей природе характера (роль, которую отчасти разыгрывал я сам).
Тайц был дворовым приятелем Алика чуть ли не с младенческого возраста (их родители дружили), его отец был директором чего-то научно-исследовательского и высоко правительственного. Они жили в соседних подъездах, и от Тайца периодически невозможно было избавиться на заседаниях Конгрегации. Войдя в дом, он рвался к магнитофону. Его одержимость с увековечиванием на магнитофонной ленте собственного голоса была связана с мечтой его жизни: стать великим оперным певцом. Все отмечали в нём некую монструозность переростка: лоб с залысинами, когда ему не было ещё и двадцати, и при этом — волосатые грудь и ноги огромного дылды. Он передвигал своё не по возрасту пузатенькое мощное тело, как робот: когда нужно было повернуть голову, разворачивался весь торс. Как будто берёг шею. Он вообще больше запоминался в жестах — и большинство из этих жестов связано с горловыми связками. Тайц воображал себя оперным гением. Он брал частные уроки пения (за родительский счёт) у какого-то маститого маэстро по вокалу. Деньги были огромные. Что думали по поводу его таланта родители, мы не знаем. У самого Тайца не было сомнений в мощности своего козлиного блеяния. Не его ли имела в виду домработница Шура, упоминая “транду козиную”? Тайц требовал постоянного внимания к собственным голосовым связкам.
На сборищах Конгрегации, где трудно было различить лица в облаках сигаретного дыма, Тайц то и дело отбегал в угол и, обхватив горло нежно, как удавкой, одной рукой, другую, с увлажненным носовым платком, держал у губ. Выпучив глаза и по-рыбьи раскрывая рот, он всем своим видом показывал, что вот-вот задохнётся от вредного сигаретного дыма, погибнет. Периодически, чтобы доказать самому себе (и всем присутствующим, естественно), что, несмотря на эти нечеловеческие пытки, он всё ещё не потерял голоса, Тайц вставал в оперную позу — одна нога слегка пригнута в колене, рука вытянута вперёд, в ленинском жесте в направлении светлого будущего, — и растянутые оперной гримасой губы выдавливали, как из тюбика с зубной пастой, писклявые натужные вопли сипловатого тенора: “В рощу лег-кою сто-пою ты войди-и-и, друг мой…” Его лицо искажено натужной оперной гримасой, брови ползут вверх, как будто стараются воссоединиться с остатками волос на затылке.
Мы его дразнили. Это было коллективное чувство превосходства. Мы были вместе, а он один. Мы все считали его уродом. Кроме тебя. Ты не помнишь, а я помню, как он смотрел на тебя не отрываясь — когда ты впервые появилась на заседании ситуайенов. Но с другой стороны, на тебя все смотрели. И на Нину Петрову (мою будущую жену) тоже смотрели все. Счастливые дни Конгрегации. Когда важней всего на свете — кто на кого посмотрел.
Нина тут же стала демонстрировать нам, членам Совета Вечных, своё умение лихо пить водку. Залпом. На спор. Стаканом. Было совершенно ясно, что пьёт она водку впервые. Но она не знает, что они это знают. Чёлка от возбуждения сбита в сторону, подбородок вздёрнут, и в горло — залпом — опрокидывается полстакана. Но она не глотает эту жуткую порцию. Она начинает полоскать этой водкой горло, как будто это — средство от простуды. От такого зрелища у всех глаза лезут на лоб. В конце концов, Нина проглатывает водку и глаза начинают лезть на лоб у неё. Нам жутко. Что будет? Звонить в скорую помощь? Но через мгновение она уже встряхивает чёлкой и начинает победно улыбаться, раскрасневшись. Она слегка смущена своим успехом. Так, с двусмысленной улыбкой, смущённые сценической победой, раскланиваются звёзды театральных подмостков. Начинаются танцы-обжиманцы. Были и другие кандидатки в члены Конгрегации. Но они отказывались принимать участие в распитии водки и в танцах-обжиманцах. Этих рефьюзников мы изгоняли из Конгрегации “за разврат”, как было запротоколировано в стенограммах наших заседаний.
Я всё время возвращаюсь в памяти к этому моменту, счастливому, но сулящему в ещё несостоявшемся будущем тоску и тревогу. Все смеются уже непонятно чему — то ли комичности Тайца, то ли уморительности процесса полоскания горла водкой, то ли просто от снежной безответственности и юношеской смешливости. Я помню, когда, уже при тебе, Тайц заголосил в том же духе про рощу и лёгкую стопу, все опять начинали хихикать и строить рожицы у него за спиной, и вдруг я заметил, как на твоём лице блуждает счастливая улыбка — ты его слушаешь, склонив внимательно голову, и улыбаешься. Улыбаешься ему. Но это было уже позже, в эпоху сборищ у киоска “Недели” с Асарканом, когда мы ввели тебя и Нину Петрову в состав Конгрегации.
Голосование производилось обычным для Конгрегации образом: с помощью пинпонговых шариков. Каждому было выдано по два шарика: один чёрный, другой белый. В этой процедуре было, несомненно, нечто от Древней Греции, где голосование за или против зависело от того, в какой из двух кувшинов ты опускал свой камень. Мы модернизировали этот процесс. Вместо двух греческих кувшинов у нас был один советский унитаз. Члены Совета Вечных поочерёдно заходили в уборную, запирали дверь (для неукоснительного соблюдения тайны голосования) и бросали один из шариков в унитаз: белый — за, чёрный — против. Затем, дверь в сортир открывалась настеж, и Алик Меламид (Рекс) собственноручно, резким и точным движением руки, спускал воду. Какие-то шарики засасывало в бездну канализационной системы, но какие-то всплывали вновь, выскакивали обратно на поверхность по прихоти судьбы. Решение определялось количеством белых супротив чёрных пингпонговых шариков, всплывших вновь в унитазе.
И ты, и Петрова, всплыли белыми шариками с первого же “спуска”. Тайц проваливался каждый раз. Процедура повторялась. Члены Совета Вечных один за другим удаляются в сортир с пингпонговыми шариками. Тайц ходит кругами вокруг запертой сортирной двери, как перед кабинетом экзаменатора, в классической для него позе: шея вытянута, он прижимает платок ко лбу оперным жестом, и при этом выставляет ухо, прислушиваясь к рокоту воды в унитазе. Рекс, своим раскатистым басом, объявляет роковой результат, и Тайц бросается вон, на лестничную площадку, как будто собирается броситься вниз, через лестничные перила. Алик за ним — его успокаивать. Life’s an opera, мы дорожим твоим голосом, Тайц, и через полчаса они возвращаются вместе. Членство в Конгрегации само по себе Тайца не интересовало. Но ему казалось, что это обеспечит ему беспрепятственный допуск к магнитофону. Он постоянно проверял, не потерял ли свой оперный голос. Мы его не интересовали.
Нас, аналогично, интересовал не столько Тайц, сколько его автомобиль. У Тайца был личный лимузин. Невероятно, но факт. Магнитофон был редкостью, но личный автомобиль существовал только в иностранных фильмах. Это была хрущевская версия сталинского “зиса”. Если сталинский лимузин был больше похож на старинный Роллс-Ройс, то “зил” (то есть, с завода имени Лихачёва, а не Сталина) был точной копией американского кадиллака. А, может быть, это был “зим” — имени Молотова. Если бы я писал роман, этот лимузин можно было бы использовать как автомобиль для быстрого исчезновения гангстеров с места преступления.
Родители подарили ему этот лимузин в награду за то, что Тайц не провалил экзамены на аттестат зрелости. Мощный драндулет, удивительная машина, простаивал под снегом долгие зимы, но заводился с первой же попытки. Этот автомобиль нам, конечно же, хотелось каким-то образом апроприировать на нужды Конгрегации, но мы не знали как. Мы пытались эксплуатировать доступность этого советского чуда на колёсах, приспособить его в качестве личного транспорта для членов Совета Вечных, но Тайц сопротивлялся: отчасти из-за вздорности и мелочности характера, но, скорее всего, как стало ясно позже, из-за страха перед самим собой — он был адским водителем. И тем не менее периодически мы всё-таки брали своё, втянув Тайца в какие-то игры на спор, которые Тайц неизменно проигрывал.
Легче всего Тайца было втянуть в спор, связанный с его голосовыми связками и его надеждами стать оперным певцом. На этом-то он и погорел в тот эпохальный вечер, проиграв спор — весьма актуальный для магнитофонного жанра. Спор этот предложил сам Тайц: “Кто громче крикнет?”
Мы договорились, что в случае проигрыша Тайц будет развозить нас по домам в своём лимузине. В собственном оперном таланте Тайц не сомневался. Но вот мощь и выносливость голосовых связок Тайца беспокоила, как могла бы беспокоить бегуна на длинную дистанцию мускулатура ног. Особенно мнительно Тайц относился к голосу Алика. Ему не давал покоя громогласный бас. Он воспринимал этот бас как личную угрозу: он полагал, что Меламид рвётся занять уготованное уму, Тайцу, место будущей звезды оперных подмостков. Дело дошло до того, что Тайц заставил и Алика отправиться вместе с ним к маститому профессору вокального искусства на экзамен — пробу голоса. Профессор добросовестно и терпеливо выслушал колоратурные вопли Меламида и сделал следующий вывод — в письменном виде: “Голос выдающийся. Но петь не будет”.
Казалось бы, Тайц должен был остаться довольным этим приговором: с одной стороны, соперник серьёзный (“голос выдающийся”), а с другой — никакой угрозы не представляет (“петь не будет”). Но как только Тайц воображал себя на гигантской сцене Большого театра, мощь голосовых связок Меламида не давала ему покоя. Неудивительно, что ему пришла в голову идея этого музыкального экзерсиса: кто кого перекричит — у кого мощнее голос?
Процедура состояла в следующем. Тайц издавал очередной оперный вопль — разного тембра, высоты и мощности — и тут же воспроизводил его в записи. Мы все обязаны были вслушаться в звук этого воя и оценить произведённый эффект. Затем, пробу на мощь голоса перед микрофоном магнитофона должен был пройти каждый, и в первую очередь — Алик Меламид. Надо было издать во всю силу крик, рык, вопль. Ситуайены, естественно, все без исключения, тут же согласились. Было в этом подстрекательстве Тайца и нечто такое, что отзывалось в подсознании каждого советского человека той эпохи: всем хотелось публично заорать как можно громче. Смысл этого крика невозможно расшифровать взрослому человеку.
И действительно, как я сейчас понимаю, мы возбуждались от самой возможности воспроизвести самих себя — без всякого родительского надзора, контроля партии и правительства. Это была свобода. Свобода тиражирования непроизвольно издаваемых звуков. В том же духе звучали и наши лозунги-декларации на гербовом бумаге Конгрегации (на страницах из туристского блокнота В.О.А.С.): “Звук и его громкость есть, ситуайены, преодоление рабства слов и идей. Альтернатива между тоталитаризмом и либерализмом — всяким ‘измом’ — для занудных кретинов-демагогов старшего поколения. Мы — новые нигилисты советской эпохи: мы воспроизводим наши собственные звериные звуки”.
Собственно, именно этой терапией крика занимается на сеансах йоги и концептуальной психотерапии обеспеченный класс европейских столиц. Годами позже я прочёл брошюру инструктора по психопатологии подросткового мышления при Отделении старшего детства института психиатрии им. Сербского, Ц.Х. Бляфер. Она пишет: “В конфронтации с авторитетом родителей, дети впадают зачастую в некий транс зауми, громогласной бессмысленности, звуковой бессловесности. На разговоры, даже самые элементарные, буквально не остаётся места среди бушующих гормонов и эмоций этого возраста. Юность — это катастрофическое отсутствие собственного словаря. Оттого такое значение играет жест, поза, вид”.
Мы подмигивали друг другу, издевались над маниакальностью Тайца у него за спиной, но в действительности орали благим матом от всей души, дрожали от возбуждения и, встав в оперную позу, с наслаждением издавали бешеные дикие вопли, пока не начинало колотить в висках. “Рекс” Меламид, для создания атмосферы научного эксперимента, крутил ручки магнитофона и указывал на индикатор громкости записи Тайцу, когда каждый из нас по очереди вставал перед микрофоном. Я бы дорого дал, чтобы отыскать магнитофонную катушку с нашими воплями радостного озверения. Индикатор, естественно, зашкаливало постоянно, никаким показателем мощности голоса он служить не мог в принципе, но Тайц нервничал, бегал кругами вокруг магнитофона, откашливался, гладил горло, вытирал платком рот, массировал мускулы щёк, шевелил ушами.
Как только Тайц отворачивался, мы впадали в истерический пароксизм смеха, до слёз, непонятных Тайцу, судя по его ошарашенному, паническому взгляду. Это было безумно смешно, потому что и ежу было ясно, что магнитофонным индикатором громкость звука не измерить. Это было понятно всем, кроме Тайца, он верил в мистерию магнитофонной техники. И мы подыгрывали его иллюзии, подзуживали на новые, немыслимые фиоритуры. Но его безумные фиоритуры не могли идти ни в какое сравнение с устрашающим рёвом Рекса. Даже домработница Шура не выдержала, вошла и сказала Алику: “Надень на голову ведро — ещё громче покажется”. В стену стали стучать соседи и это было самым убедительным доказательством триумфа голосовых связок главы Конгрегации. Мы воспринимали это как общую победу ситуайенов.
В тот вечер, потерпев оглушительное, в буквальном смысле, поражение, Тайц, как уже было упомянуто, обязан был развезти всех ситуайенов по домам — на своем “зиле”. И он сдержал слово. Закончилось это путешествие в лимузине нашим первым столкновением с милицией.

