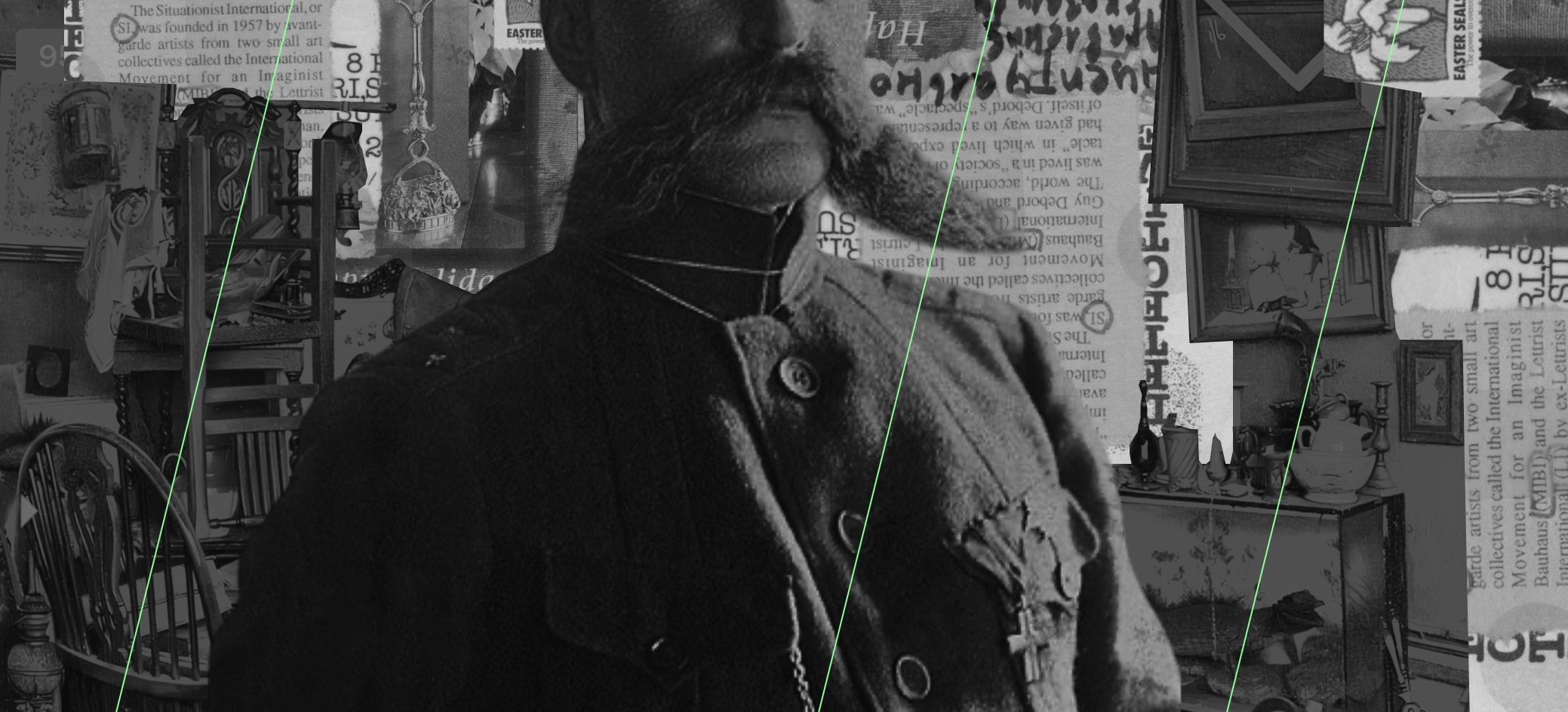Я должен описать это помещение рядом с подворотней на подходах к Тишинскому рынку. Лавка старьёвщика вовсе не выглядела как лавка. Это была дощатая постройка, похожая, скорей, на сторожевую будку, чем на сарай, даже на огромный шкаф. Ты сказала, что изнутри это маленькое помещение с хаотичным нагромождением вещей напомнило тебе комнатушку Асаркана. Но это, конечно же, иллюзия: мы просто видим то, о чём постоянно думаем. Это неправильная параллель. Комната Асаркана не была хаотичным нагромождением. Асаркан уничтожал всё ненужное. Железное правило было по Пастернаку: не надо заводить архива и так далее — рукописи всё равно заберут органы при обыске. Лавка старьёвщика больше похожа на такой архив. Я выуживаю из хаотического завала черновиков, набросков и первых вариантов разные эпизоды и отрывки, чтобы из них выстроить новую стройную версию истории об украденном стиле жизни. Я вспомнил этот заход к старьёвщику, потому что постоянно держу в уме скрытый детективный сюжет этой истории — как мы все оказались втянутыми нашим общим другом в кражу старинной бронзы, блюд и фарфора из заброшенного дома в пригороде Москвы. Я думаю, визит к старьёвщику у Тишинского рынка и был началом этого детектива.
Я воображал, что из этой дощатой хибары выйдет какой-нибудь диккенсовский хмырь в обмотках или еврей в телогрейке с ермолкой на макушке, а может быть, татарин с тюбетейкой в подбитом ватой зимнем халате. Мы с тобой помним с детства знакомый звук за окном — скрип телеги и цоканье копыт: в телеге сидел дядька на ящике с вожжами в одной руке, а в другой руке у него было нечто вроде граблей. Его однотонный позыв, клик, запев, завывание — старьё-берём, берём-старьё-берём — длинное и протяжное, как молитвенный зов муэдзина. Когда я услышал в моё первое утро в Иерусалиме похожие фиоритуры из ближайшей мечети на соседнем холме, мне показалось, что я снова оказался в московском дворе со старьёвщиком на телеге. Он объезжал улицы, собирая любое барахло за копейки. Но от нас он ничего не получал: в нашей квартире (напополам с дядей и тётей — родителями Лёньки Глезерова) никто никогда ничего не выкидывал. Вся эта рухлядь, скопившаяся за годы обеспеченного убожества, громоздилась в лавке древностей при Тишинскому рынке, как и в коридоре, на кухне и в ванной нашей общей семейной квартиры в Марьиной Роще (Октябрьская улица, дом 38, кв 205). Покалеченные кастрюли, дуршлаги со слипшимися дырочками и половники с отломанными ручками, пресс-папье и мраморная чернильница, заплесневелая стиральная доска, розовый абажур без лампы, испорченный электрический утюг, плед, съеденный молью, банка с лыжной мазью, покалеченная мясорубка, электрический штепсель, керосинка без фитиля, вешалка с ржавыми крючками — так выглядело бы хозяйство Плюшкина, если бы он был владельцем комиссионки. Вполне возможно, сюда попала вся помойка, доставшаяся от тёти подруги Иоэльса, если не ошибаюсь, Милки. За исключением, скорей всего, пропавших бриллиантов. Всё это можно было углядеть с улицы — дверца этой лавки, напоминающей стенной шкаф, была открыта.
Свет на исходе зимнего дня, припоршенного снежком, высвечивал нагромождение этой рухляди у входа. Мы нерешительно топтались снаружи. Курепов шагнул вовнутрь, в хаос из барахла от пола до потолка, как старый знакомый. «У Курепова гениальный глаз», сказал Виктор Михайлович Иоэльс. «Он ходит по старьёвщикам и откапывает в кучах барахла фантастические вещи. Он потом эти предметы сам подчищает, реставрирует и перепродаёт в комиссионку. Молодой человек зарабатывает себе на жизнь. Это надо поощрять». Толя Макаров сказал, что уже давно мечтал бы украсить своё холостяцкое жилище чем-нибудь бронзовым. Курепов взял у Макарова его адрес. Асаркан порылся на полках у входа, вытащил тут же старый томик без обложки, но с титульным листом. «Наш общий друг», пролистал он пожелтевшие страницы. «Роман Диккенса. Тут монолог еврея-ростовщика, которого постоянно цитирует Улитин. Мне это издание пригодится для разрезки на открытки». Иоэльс тем временем подхватил с полки старую кофейную мельницу. Покрутил ручку. Ручка крутилась. Мельница работала. «Особенность помоек», сказал Виктор Иоэльс, «в том, что в куче выброшенных вещей всё кажется, прошу прощения, дерьмом. Но стоит выделить предмет из общей кучи, стереть с него пыль, и он засияет своей, извините, уникальной антикварностью».
Мы с тобой тоже шагнули вовнутрь, в полутьму, нерешительно, за Куреповым. Но он тут же растворился в полутьме, скорей всего в сопровождении старьёвщика, среди ковровых занавесок, свисающих с потолка, за сломанной этажеркой и вешалками со старыми платьями и пальто. Мы с тобой потолкались у полок, забитых загадочными сосудами, чашками и блюдами. Мы понимали, что нам следует найти нечто оригинальное в этом хаосе, но мы не знали, что в этом хаосе «засияет своей антикварной оригинальностью». В глубине сарайчика уже было мрачновато, и в двух шагах, на возвышении, горела свеча. Наши с тобой тени от колеблющегося света свечи двоились дощатыми перегородками, растягиваясь в глубине, и от этого у меня создалось ощущение, что внутренность этого убогого на вид снаружи сарайчика размером со шкаф, выросла в этой полутьме в нечто громадное, пещерное. Или космическое: то, что снаружи выглядит как британская полицейская телефонная будка, внутри обретает грандиозные размеры космического корабля, в котором путешествует по времени бессмертный Доктор Кто. Свет от свечи отражался и множился бликами на бронзе старой керосиновой лампы, и эти отблески превращали керосинку в волшебную лампу Аладдина в фантастической пещере — надо потереть лампу и перед тобой возникнет джин. Казалось, сейчас навстречу нам выйдет та самая старуха, которая гнала нас с Асарканом из-под сводов пещеры на Солянке, куда свозили помойные баки со всего района. В этой лавке старьёвщика пахло отчасти так же, как в комнатушке Асаркана: сигаретным дымом, старыми одеялами, пылью из газетной груды. Несло и запахами коридора нашей общей с моим кузеном Лёней Глезеровым квартиры у нас в Марьиной роще — с зимними вещами в нафталине на вешалке перед каждой дверью, с сундуками и коферами, велосипедами со сдутыми шинами и лыжами в ванной, с чуланами семейных скандалов, истерик и запахом валидола. От свечи исходил непонятный жар, пока я не понял, что она стоит на чугунной печке буржуйке, где внутри отсвечивали пылающие угли. Меня обдало этим жаром, как от раскалённых батарей центрального отопления ночью, в нашей коммунальной квартире, где мы жили семьёй вчетвером в двенадцати квадратных метрах, и где на ночь всё раскладывалась и складывалось, убиралось и раздвигалось — стол, диван-кровать родителей за ширмой и моя раскладушка. Свет ночника за китайскими драконами ширмы, шёпот и бульканье батарей, вздох и стон тоже двоились и множились, батареи недовольно шипели. Старьё-берём. У меня в глазах зарябило, я почувствовал удивительную лёгкость и стал лететь всё дальше и глубже в пещерную тьму. Это был обморок. Ты подхватила меня под локоть — как я подхватил Асаркана, когда он поскользнулся на обледеневшем тротуаре. Ты вывела меня к выходу, на светлую от снега улицу.
Кто-то двигался за нами в полутьме. Сначала мне казалось, что я просто слышу стук собственного сердца, но потом я понял, что это стук каблуков; и это не моя тень раздвоилась от двух источников света — свечи внутри и света из двери; это была третья тень. Это была тень хозяина-старьёвщика. Когда мы шагнули наружу из полутьмы, он уже поджидал нас. Это был человек, пугающий своим несходством с Плюшкиным. Я сначала подумал, что это не сам старьёвщик, а его очередной клиент. Поражали его густые мощные усы до ушей. Такие усы я встречал лишь на картинках генералов прошлого века. Точно такие же усы были у владельца паба The French в лондонском Сохо; тот любил целовать ручки дамам — чтобы вытереть пивную пену с гигантских усов. На голове у старьёвщика была экзотическая восьмигранная шапка — то ли монгольского хана, то ли нечто вроде хасидскогло штраймеля — с меховой оторочкой вокруг кожаного треугольника в центре, вроде ермолки. В остальном он выглядел, как своего рода двойник Иоэльса. Но безукоризненный полушубок Иоэльса с воротником, отороченным мехом, не мог конкурировать с новенькой инвалютной дублёнкой старьёвщика. Оба, прищуриваясь, оценивали друг друга как два лондонских денди.
«Интересно, где он выклянчил такую дублёнку?» пробормотал Иоэльс. «Шубу возьмёте?» требовательно поинтересовался он у старьёвщика. Асаркан распахнул шубу — напоказ.Тот оглядел Асаркана с ног до головы и сказал: «Куда мне это барахло девать?» Наверное, под барахлом он всё-таки имел в виду шубу, а не Асаркана.
«Медвежья», не без гордости уточнил Иоэльс. Старьёвщик протянул руку и пощупал медвежий ворс на рукаве у Асаркана, как будто тот был манекеном в витрине.
«У меня своих тряпок хватает», сказал он. «Старые тряпки в наши дни не идут. Сейчас идёт бронза». Тяжёлая бронза, вроде ступок, идёт быстро, сказал он. Медные тазы медленней, почти шагом, но тоже идут. А верхняя одежда висит и никуда не идёт. Он говорил слегка сквозь зубы, потому что во рту у него был инкрустированный мундштук. Он достал из кармана экзотическую пачку сигарет небесно-голубого цвета с иностранными буквами на обёртке; осторожно вытряхнул оттуда одну, вкрутил её бережно в мундштук и задымил резким дымом, по запаху похожим на сигарный. Я знал этот запах, потому что одно время Москва была завалена кубинскими сигарами и ромом — в обмен, очевидно, на советские пушки. Увидев эту голубую пачку, колумнист «Недели» Толя Макаров воскликнул: «Gauloises Caporal! Mon dieu! Сашка, гляди, ты видишь, что он закурил?» Макаров явно остолбенел. «Французский Голуаз!» Мы, как в зоопарке, вместе с Макаровым глядели на голубую пачку, будто она была в руках не у человека, а у обезьяны. Надо было не только глядеть, но и нюхать. Я тогда не знал, что эти сигареты были для знающих людей, вроде Толи Макарова, объектом культа, символом западной жизни. Как в пятидесятые годы для стиляг был набриолиненный кок, штаны, как водопроводные трубы, и Элвис Пресли «на костях». Такие сигареты, объяснил нам Толя Макаров, курят Пикассо, Альбер Камю и Жан-Поль Сартр. Выяснилось, что их курит ещё и старьёвщик с Тишинского рынка.
«Я тоже эти сигарки люблю, за крепость», сказал невозмутимый старьёвщик, попыхивая Голуазом. «У французов-туристов обменял — целый сигаретный блок на сломанную прялку, если товарищи интересуются. Им подавай всё старинное, славянское. Прялки, иконы, ну и бронзу всякую, палех, подсвечники. Такую шубу им не продашь», сказал старьёвщик, снова бросив взгляд на Асаркана.
«В Париже такая шуба была бы нарасхват — русская экзотика!» сказал Макаров.
«Но мы же не в Париже, молодой человек», сказал старьёвщик. «Иностранный турист в России замечает только матрёшек с иконами».
«Ну да», поддержал его Асаркан. «Ходят по улицам, как домашние хозяйки, с сумками лаптей, с балайками под мышкой и авоськами с матрёшками. Теперь ещё и Суздаль отреставрировали для охмурения именно таких русофилов с авоськами».
«Для меня это полная загадка: чего тащиться за православной стариной в Суздаль?», сказал старьёвщик. «Если товарищи интересуются, всё, что есть в Суздале, есть заведомо и в Москве, а то, чего нет в Москве заведомо невозможно отыскать в Суздале».
«Совершенно верно, разве порядочный иностранец поедет в Суздаль?» Асаркан оглядывал старьёвщика с одобрительной ухмылкой и рассуждал как бы сам с собой, но на самом деле просвещая нас. «Порядочному человеку вообще стыдно в Россию ехать. А уж если приехал, то исключительно для того, чтоб посидеть на лавочке на Тверском бульваре или заглянуть на Тишинский рынок. Но такой порядочный иностранец — редкость. Это ещё Ильф и Петров удивлялись: „Что делает здесь, вдали от лаптей, балалаек и палеха, этот потомок умирающей европейской цивилизации“. Сейчас в Москве модно ездить в Каргополь и осматривать там разрушенные монастыри. Как я понимаю, прогрессивная интеллигенция начала кампанию по восстановлению исторических памятников в Каргополе. Это они пытаются из Каргополя сделать второй Суздаль — с иконами и лаптями в авоськах. Но советская власть, слава богу, на это не пойдёт. Каргополь! Ишь чего захотели. Там ведь прежде всего надо лужу на главной площади откачивать, помойную яму закапывать, не считая дыр в асфальте со времён Ивана Грозного. Нет уж, знаете, Суздаля достаточно. Вот на Томск-7 никогда не будет моды. Немодный городок. В Томск-7 даже Эдиту Пьеху не пустили. Приняли за иностранку. Её музыкальный ансамбль пустили, а её саму — нет. Откуда, сказали, нам известно, что вы не иностранка? Даже если Гротеволь приедет, его в Томск-7 не пустят. Будь ты трижды Гротеволь, а к нам ни-ни. Это утешает. Хватит нам вашей Суздали».
«В мою юность», подхватил его мысль старьёвщик, «газеты кричали о тлетворном влиянии Запада. С Эдитой Пьехой я не знаком, иностранка она или нет — не знаю, но не кажется ли вам, что сейчас надо разоблачать не влияние Запада на Россию, а тлетворное влияние России на Запад?»
«Наша прогрессивно-либеральная интеллигенция становится блюстителем православных традиций. Их предки в прошлом веке и довели, в конечном счёте, народ до революции. Таким энтузиастам с их местечковым происхождением любить православные храмы должно быть стыдно, а они их ещё и пропагандируют их среди населения. Им мало самим любоваться своими церковными куполами. Они со своим гнусным просветительством растрезвонили по всему миру про русскую старину. Цены на самовары теперь такие, что самовар может позволить себе в наше время только миллионер». На эту сентенцию Асаркана возражений не последовало.
«Что я вам на это скажу?» сказал старьёвщик. «Я скажу вам сталинское спасибо русскому народу. Мерси, как говорят в Париже. Можно с иностранцев драть три шкуры за лапти с самоварами».
«Да, вам грех жаловаться», вставил своё мнение Толя Макаров-колумнист.
«Я жалуюсь?» пожал плечами старьёвщик. «Зачем мне жаловаться? Таково движение истории. Я вам скажу, что по этому поводу думает мой раввин из синагоги в Марьиной роще. Родители, сказал он, отошли от иудаизма в коммунизм — от прошлого в будущее. Теперь их дети отходят от коммунизма в православие — из настоящего в прошлое. Не знаю, куда повернут их внуки. Я спрашиваю: почему надо куда-то отходить и куда-то поворачивать? Это видимость выбора, говорит раввин из Марьиной рощи. Блуждающий в лесу ходит кругами и возвращается туда, откуда он начал. Это вы, прогрессивная интеллигенция, сначала выбрасывали самовары на помойку. Я их подбирал. А теперь вы цены на самовары и взвинтили. Я не жалуюсь. Мне это выгодно. Я не против. Я получаю дикие деньги за самовар. Почему бы мне не получать деньги за самовар? Я не поднимал цены на самовары. Антикварные бухгалтерские счёты и старые стиральные доски тоже в большой цене, если товарищи интересуются. У меня одна такая антикварная доска осталась, ещё досталинских времён, вам, случайно, не надо?» спросил он почему-то Асаркана. Я уже не в первый раз замечал, что при встречах даже на улице со странными случайными людьми эти персонажи тут же обращались именно к Асаркану: он как будто гипнотизировал их своим взглядом.
«Между прочим, негры Луизианы с хлопковых плантаций используют эти стиральные доски как музыкальный инструмент», сказал Асаркан, пробарабанив пальцами по рёбрам доски.
«А вы у нас в джазе?» спросил старьёвщик.
«Да нет, я тоже, как и вы, в розничной торговле. Торгую словами», сказал Асаркан, закуривая свою «Шипку».
«Иностранными языками тоже владеете? У меня сейчас главный клиент — иностранный турист».
«Я читаю итальянскую прессу», сказал Асаркан. «Но если вам нужен ассистент с иностранным флёром, вот тут Курепов ходит, он может изобразить любой иностранный язык».
«Студента Курепова знаю. Вот он идёт, студент Курепов, с подсвечником в руках», сказал старьёвщик. «Курепов давно ко мне захаживает. Он рассказывает мне о театральных экспериментах итальянца Пиранделло, где сцена сливается с залом, а жизнь с театром. Такова современность, утверждает он, такова его психодрама. Он хочет иметь у себя дома немного исторического прошлого, он хочет иметь домашнюю бронзу. Почему бы нет? Но у него нет сертификатных долларов. Я ему отдаю подсвечник по своей обычной цене. Или ступку. Курепов, ты хочешь эту ступку с пестиком? Я отдаю её тебе за три рубля. Цена поллитровки, если товарищи интересуются. А сколько я бы взял с француза? Тридцать рублей. Или блок сигарет Голуаз. С иностранца я сдираю три шкуры. Я курильщик, но я не спекулянт. Потому что он, иностранец, готов платить, а у Курепова ограниченные сценические средства».
«А я возьму эту кофейную мельницу», сказал Иоэльс. «Я обещал Асаркану сварить дома такого же крепкого кофе, как в магазине „Чай“».
«А кто такой Асаркан?»
«Это я», сказал Асаркан.
«Шуба, значит», сказал старьёвщик.
«А вас как величать?» спросил его Иоэльс.
«Можете называть меня Георгием Ивановичем».
«Георгий Иванович Гурджиев?» спросил Асаркан, не без иронии.
«Нет. Не Гурджиев. Моя фамилия Морено. Я тоже когда-то продавал ковры. Но в наше время самовары продавать выгодней». И, повернувшись к Асаркану, сказал: «Мы чудесно поговорили. Во многом, как оказалось, согласны. Но если товарищи не возражают, я сделаю одно замечание. Насчёт авосек. Вы несколько раз говорили про иностранцев с матрёшками в авоськах. Не уверен, что иностранец носит матрёшек в авоськах. Матрёшек не следует в авоськах носить», сказал старьёвщик.
«Это почему? Русская авоська хороша чем? Сунул в карман и пошёл на рынок за матрёшками».
«Недальновидно. Авоська вся состоит из дырок. Туда матрёшки могут провалиться».
«Пожалуй, вы правы», согласился Асаркан, подумав. «Я однажды уходил из гостей и мне в авоську положили кучу соевых батончиков. Когда я пришёл домой, выяснилось, что половина выпала из авоськи. Сквозь эти самые дырки, как я понимаю».
«Сквозь эти самые дырки», повторил Георгий Иванович Морено и без перехода, явно обращаясь к кому-то у нас за спиной, ткнул большим пальцем себе через плечо: «Несите мешок в зад, товарищ Сутыгин. Я открою дверцу изнутри».
Что-то тяжёлое грохнулось на асфальт со звоном у нас за спиной. Мы все обернулись. Ты видела, как Асаркан вздрогнул? «Колька, ты что тут делаешь?» — воскликнул он. Перед нами, рядом с мешком на асфальте, стоял бритый мужчина с театральной внешностью на роль уголовника. Он оттащил мешок к дверям лавки, выпрямился и сказал: «А ты, Асаркан, что тут делаешь? Иди, воруй, пока трамваи ходят!» Оба рассмеялись. На нас он даже не взглянул. Он взял Асаркана под руку, взвалил мешок за плечо, и они завернули к заднему входу в сарай. Мистический Морено в ипостаси старьёвщика сказал, что возьмёт за кофемолку сколько дадите, а «нашего общего друга» Асаркан пусть берёт бесплатно: этого Диккенса всё равно пора выбросить на помойку. Он шагнул вовнутрь, не попрощавшись. Мы остались в ожидании Асаркана. Он возник перед нами снова через несколько минут уже один, и у него на губах блуждала загадочная улыбка.
«Это ж надо, кто бы мог подумать, Колька Сутыгин!» повторял Асаркан, когда мы двинулись в сторону дома Иоэльса.
И прозвучали четыре мистических буквы: ЛТПБ. Я впервые услышал эту загадочную аббревиатуру из четырёх букв от Лёни Глезерова, моего двоюродного брата. Он, как я уже говорил, учился в классе, где жена Айхенвальда, преподавала литературу, и я думал, что это аббревиатура какой-нибудь Литературно-Театральной Публичной Библиотеки. Когда Глезеров пересказывал мне историю семейства Айхенвальдов и их друзей, я не запоминал — или не осознавал — ни дат, ни фактов об арестах и ссылках; путаны для меня были семейные связи, где деды ушли в изгнание, дети были в сибирских лагерях, а отцы работали в НКВД, и те, и другие умирали — или от голода и на лесоповале, под пытками или в подвале с пулей в затылке. Мне открывался готический мир кандального звона, колючей проволоки, орудий пыток, вечной мерзлоты и тюремных подвалов. К этому чёрному списку тюремных ужасов добавились буквы ЛТПБ — Ленинградская Тюремно-Психиатрическая Больница. Я представлял себе нечто вроде лондонского Бедлама, где сумасшедших гоняют по коридорам санитары с плётками и запирают их в карцеры; где врачи-убийцы в белых халатах вооружены огромными шприцами с медицинской отравой для превращения психа в тихого идиота. Но и без этих готических кошмаров в моём воображении, во всём, что говорил Глезеров о жертвах сталинского режима — об арестах, лагерях и ссылках, — всегда сквозила нота фатальной безысходности, и его, Глезерова, безграничного сочувствия к беззащитным жертвам-одиночкам перед лицом тоталитарного монстра. (Я не уверен, что умел тогда произнести слово «тоталитаризм».) Сам я выслушивал эти мрачные отчёты отчасти с ощущением тоскливого страха, потому что именно в доме Айхенвальдов предстояло выступать на домашнем концерте пародийному барду и менестрелю Зиновию Воасу с его шарлатанскими гитарными экзерсисами.
Наверное, всё так и было: тюрьмы, пытки, ссылки, санитары с ремнями, врачи со шприцами. Но вот Асаркан заговорил об одной из страниц мрачной саги о советской власти, и в его монологе страшная история ЛТПБ стала превращаться в нечто вроде смешного театрального макабра. Меня с первых дней знакомства с Асарканом поражало, как у него любой случай из жизни, даже самый мрачный, становится чуть ли занимательным детективом или словесным цирковым номером. Мы с тобой шли рядом с ним по разные стороны, и я заметил, с какой жадностью ты вслушиваешься — нет, вглядываешься — в каждое его слово. Я, наверное, выглядел в твоих глазах точно так же. Конечно же, в его монолог точно так же вслушивались и Лёвка Смирнов, и Ян Каган, и Виктор Иоэльс, и даже Курепов. Но для нас это было откровение, как синайский шёпот Бога на ухо Моисею: нечто такое, что не записано в скрижалях, а передаётся из уст в уста. История эпохи сшивалась белыми нитками из воздуха, из рассказов очевидцев. Скрижали были под цензурой фарисеев и сидукеев. А нам нужно было сырое кровавое некошерное мясо или тайная подкожная мудрость — только для тех инакомыслящих и апостатов, кто умеет понимать с полуслова. Именно так, интимно и эпохально звучали для меня все его истории, анекдоты, опыт жизни. А тем более, когда речь шла о запретном мире: заграница и тюрьма были, в этом смысле, равнозначны по своей притягательности загадочности опыта. И я слушал. Наматывал — в виду отсутствия усов — на невидимый магнитофон-кассетник в мозгах.
* * *
«Колька Сутыгин, это ж надо!» повторял Асаркан, как на сеансе гипноза. Я слышу его голос, с необычайной плавностью передвигающегося по Москве в своём медвежьем салопе. «Бывший вор. В палате тюремной больницы он на вид был явно из кошмара про советские психушки. Сидит на кровати у самой двери — такой на вид настоящий дегенерат, дебил, обормот. Кулак засовывает в рот и чего-то мычит. С санитарами у него был всю дорогу такой обмен дебильными репликами: „Ну чего, дебил, кулак сосёшь?“ хохочут санитары. А он лыбится и мычит: „Добавки хочу“. А санитары: „Своего кулака тебе, что ли, мало? Ещё одного хочешь?“ И кулаком ему по затылку. Легонько так, без особого садизма. А он на удивление спокойно всё это сносит. В общем, по идее, ясно, попал я к явным психам. Направился к тумбочке рядом со своей койкой, стал раскладывать по ящикам свой запас „Памира“ (мне как раз разрешили ларёк), и тут этот дебил с кулаком во рту подбирается ко мне из-за спины. И лезет нахально в мою тумбочку. Я тут же встал в позу, с кулаками: чего, мол, тебе, отваливай отсюда. А он вынул кулак изо рта и сказал мне спокойно так, полушёпотом, тайком от санитаров, совершенно нормальным голосом: „Эй, ты, чего расшумелся?“ Выяснилось, что это общая тумбочка, у него там был свой запас. Я тут же понял: он косит — разыгрывает из себя дебила. А на самом деле, как оказалось, вполне сообразительный молодой человек. Он стал, по сути дела, моим первым учителем и наставником по больничной жизни, моим гидом по тюремному быту, и вообще благодаря ему я узнал, как надо вести себя с санитарами, как избежать влажных закруток и инъекций инсулина, где прятать свой паёк и про подвохи в общении с разными психами. Это он мне объяснил, что значит госпитализация. А это, в отличии от тюремной камеры, значит: можно целый день не вылезать из постели, спать, есть и не работать.
Сейчас все ругают советскую власть за использование психиатрии в политических репрессиях. Инакомыслящих, мол, изолировали как невменяемых — с-ума-сшедших. Но в пятидесятые годы, те, кого объявляли сумасшедшим, вроде меня, Улитина или Айхнвальда, следователи спасали от тюрьмы и лагерей, лесоповала и цынги. Так что не говорите мне про злоупотребление психиатрией. ЛТПБ — Люблю Тебя Просто Безумно — было лучшим периодом моей жизни. Чтобы попасть в психбольницу надо пройти психиатрическую экспертизу — подтвердить, что ты псих. А это не так просто. Нашего Кольку Сутыгина, моего тюремного наставника и духовного учителя, разоблачили. Профессор из института Сербского приехал в наш бутырский изолятор. Поглядел на кулак у рта нашего тюремного гида, и сказал, что тот — совершенно нормальный, годен для лесоповала, пусть перестанет кривляться и начнёт работать, а вот этот вот (и он указал на меня) действительно больной человек: лежит, курит, думает, что он совершенно нормальный, а сам отказывается беседовать с врачами — первый признак психического заболевания, он (то есть я) поедет в ЛТПБ на лечение. Колька Сутыгин подозревал, что кто-то донёс на него как на симулянта. Он всех нас, интеллигентов, учил, как распознавать „наседку“, то есть стукача. Все мы, само собой, подозревали, что нас кто-то подсиживает. Это никому не мешало — каждый исполнял в этих коридорах свою роль. Но все мы вместе, как оказалось, были подсажены к доктору математических наук, логику Маневичу.
Маневич в прошлой жизни преподавал логику и диалектический материализм в Пединституте. Он объяснял своим ученикам, в пересказе Кольки Сутыгина, что во всякой логической системе есть такая теорема, которую невозможно доказать в аксиомах этой системы. Я думаю, Маневич нашёл бы в Алике Вольпине понимающего собеседника, но и без Вольпина и ежу было понятно, что у самой логичной и универсальной советской системы не может быть внутренних противоречий. Одного этого было бы достаточно, чтобы посадить Маневича в психушку. Он, кроме всего прочего, был ещё и самым крупным собирателем русского фарфора, бронзы и всяких доисторических самоваров среди педагогического состава. Это хобби очень помогло его коллегам и соперникам по кафедре обвинить коллекционера в великорусском шовинизме, религиозной пропаганде и разжигании национальной розни (хотя у него был, само собой, ярко выраженный еврейский нос). За это его и арестовали, несмотря на то, что Маневич был сыном Сталина. Он был в этом абсолютно убеждён. И уверял в этом всех остальных. Я сразу поверил, потому что считаю, людям надо верить. И следователи Маневичу, как он считал, тоже поверили: иначе не направили бы на психиатрическую экспертизу. Но логик не верил, ни госбезопасности, ни нам. Мы были, по его логике, подсажены в тюремный изолятор, чтобы, по мере сближения, выведывать тайные планы государственного переворота и захвата власти у сына Сталина. Сам Маневич уверял органы (и нас заодно), что хотя он и сын Сталина, у него и в мыслях нет совершать государственный переворот. Но следователи доказывали ему, что в мыслях может и не было плана переворота, но на деле он этот переворот осуществлял. Бессознательно, так сказать. Что не избавляет, само собой, от ответственности. Он сообщил Кольке Сутыгину, которому доверял, что во время сна органы впаяли ему передатчик в голову, чтобы информировать советское правительство о его, Маневича, узурпаторских планах. В один прекрасный день математик не выдержал этой травли и заявил, что хочет подписать формальное заявление о том, что он как прямой наследник Сталина отказывается от всех прав, гарантий и привилегий по руководству страной. Отрекается от власти. Не отрекается от своего отца, но лично ему власть совершенно не нужна: после смерти Сталина пусть страной руководят другие. После этого его и направили на психиатрическую экспертизу в бутырский изолятор, как и всех нас. У Маневича была мать, но он отказывался принимать от неё передачи, потому что она изменила его отцу со Сталиным. Логик хотя и считал себя сыном Сталина, но незаконным, поэтому осуждал свою мать за прелюбодеяние. Или же он рассчитывал на двойное отцовство. Как если бы в отца вселился на время Сталин, переспал с матерью и улетел обратно в Кремль. Нас он держал за агентов госбезопасности и поэтому заискивал и одновременно презирал нас, устраивал истерики и делал мелкие подлости. Передатчик, установленный у него в мозгах органами, Маневич вывел из строя путём ударов головы об стену. В результате этой акции его посадили в карцер и сделали там „ласточку“, то есть повесили на крюк к потолку — головой вниз за руки и за ноги, связанные вместе. Он вернулся в палату сумасшедшим совсем иного рода: воровал вещи из чужих тумбочек прямо на глазах у владельцев, его били, Колька Сутыгин его защищал. Маневич в конце концов перестал настаивать на том, что он сын Сталина. Публично настаивать, я имею в виду. Это была решительная победа советской медицины. Но своим внутренним убеждениям, как я понимаю, Маневич не изменил, это стало его личным секретом. Зато Колька Сутыгин начал публично утверждать, что он — сын Маневича. То есть внук товарища Сталина. Ему поверили. То есть поверили, что он в это твёрдо верит. То есть Колька Сутыгин в конце концов убедил экспертизу в своей ненормальности. И его отправили в ЛТПБ.
Выяснилось это вот как. В карантине на Арсенальной мы оказались вдвоём с Улитиным и трепались всю ночь так громко, что слышно было на весь коридор, в тюремных палатах и камерах тоже, потому что режим там был ослабленный и дырки „кормушки“ в каждой двери, чтобы просовывать миску с баландой, и через эту дыру всё было слышно. А когда меня вели по коридору, я услышал из одной кормушки голос, отчасти вроде бы знакомый, хотя и трудноузнаваемый: „Просись в уборную“. Я сначала даже не понял, ко мне ли это обращаются. Но тут простое правило: если знакомый голос товарища по заключению говорит „просись туда-то и туда-то“, значит надо проситься. А уже в тюремном сортире я и увидел Кольку Сутыгина. Он-таки попал в списки невменяемых. Тут же дал мне ряд ценных указаний: на каком из этажей лежат настоящие психи и патологические убийцы, а где — интеллигенты и доктора наук. Мы все и попросились на это отделение, и туда же перетащили позже примкнувшего к нам Айхенвальда. Тогда и началась райская жизнь в переплётной. Улитин учился переплётному мастерству, я надписывал акварельной краской названия книг на корешках, а Айхенвальда обучали разнице между ямбом и хореем. Сам я выучил там итальянский у одного специалиста по Ренессансу. Улитин до сих не успел записать все замечательные разговоры, услышанные в переплётной ЛТПБ двадцать лет назад.
Так вот, спустя чуть ли не десять лет после реабилитации соседка говорит мне: звонил какой-то азиат. Как зовут? Какой-то Кула-Курта. Я никак не мог понять, что за азиат такой и в какой газетной командировке я с ним повстречался? Пока мы не увиделись и он мне не напомнил, как притворялся психом-дебилом с кулаком у рта: кулак-у-рта, Кула-Курта, ясно? Кулакурта. Это не азиатская фамилия. Это прозвище: кулак-у-рта! Мы встретились, он завёл меня в стекляшку распивать бутылку водки (пил, в общем-то, он, а я слушал), к нам стал приставать какой-то обормот, дай пять копеек, и Колька сказал ему эту сакраментальную фразу: „Иди-воруй, пока трамваи ходят“. Сам он решил с воровством завязать. Чтобы хотя бы год перезимовать в Москве, он собирался через меня, человека прессы, пробиться в газеты и публично покаяться. Это была такая процедура публичного покаяния, согласно хрущёвскому рецепту возвращения к трудовой жизни бывшего криминального элемента. А теперь, как мы все видели, его наставляет на путь истины Георгий Иванович, старьёвщик, с любопытной фамилией Морено. Старьё берём! Такова история жизни Кольки Сутыгина, известного под кличкой Кулакурта. Иди, воруй, пока трамваи ходят!»
«Саша», робко кашлянув, решился на комментарий Лев Смирнов, самый заслуженный колледжист Асаркана. «Ты знаешь, в твоей манере изложения этой истории появилась некая эпичность. Я считаю, что это эффект медвежьей шубы». И он стал объяснять нам, разницу между театральной школой Станиславского и Михаила Чехова. Согласно Станиславскому, актёр должен вообразить внутренний мир своего героя, его профессию и образ жизни, и вжиться в него, слиться с этим миром своим «я», перевоплотиться в него всей своей личностью, душой. А Михаил Чехов считал, что внутренний мир героя можно понять лишь через внешние обстоятельства, связанные с ним, с его внешним обликом. Например, что он хромает на левую ногу или косоглаз или чернокож или носит цилиндр, работает садоводом или расстреливал несчастных по темницам. И эти внешние аспекты создают определённый характер поведения, влияют на психику персонажа. Короче, медвежья шуба Асаркана придавала некоторую вальяжность и его жестам, его интонациям и манере его речи.
«Мы уже подходим к дому Иоэльса», сказал Асаркан. «Так что я эту вальяжную личность смогу повесить на вешалку и больше в неё не перевоплощаться».
Почтовая открытка:
(Нарезка отпечатанных текстов, склеенных вместе, со вставками фломастером Асаркана.)
Старьёвщику Георгию Ивановичу Морено следую сообщить следующее о его возможном предке — из официальных источников:
Особенно большое значение в Ленинградской психиатрической больнице тюремного типа в наши дни уделяется реабилитационной работе, действуют «кружки по интересам». Работой в них руководят медсёстры, при этом применяются методы групповой и индивидуальной психотерапии, психодрама Морено… Психодрама Морено — это первый в мире метод групповой психотерапии. Сам термин «групповая психотерапия» введён в психологию Якобом Леви Морено (Jacob Levy Moreno)… 1 апреля («День дурака») 1921 года в венском театре врач Якоб Леви Морено представил публике экспериментальную постановку «на злобу дня». В процессе игры актёры импровизировали и вовлекали в действие зрителей… Существует легенда о встрече с Фрейдом, где молодой Морено заявил: «Вы разрешили пациенту говорить, а я разрешу ему действовать. Вы проводите свои сеансы в условиях вашего кабинета, а я приведу его туда, где он живёт — в его семью и коллектив»… Морено, совместно с братом своей возлюбленной, разработал проект звукозаписывающего устройства, названного ими «Радиофильм». Это устройство явилось прообразом магнитофона — принцип магнитной записи позволял стирать и вновь записывать голос. Патент на «Радиофильм» был получен в Австрии и позже, после переезда Морено в США, продан и в Штатах.
Демагог — журнал о независимой культуре.
Мы берём интервью у андеграундных режиссёров, выпускаем рецензии на главные книги независимых издательств, рассказываем о новостях культуры, репрессиях, цензуре и релизах, публикуем аналитические материалы о прошлом, настоящем и будущем.
Вы можете помочь рассказывать больше и чаще настоящей живой культуре, подключив ежемесячное пожертвование на Boosty или Patreon. Помните, что Демагог — свободный журнал для свободных людей. Мы зависим только от вас!