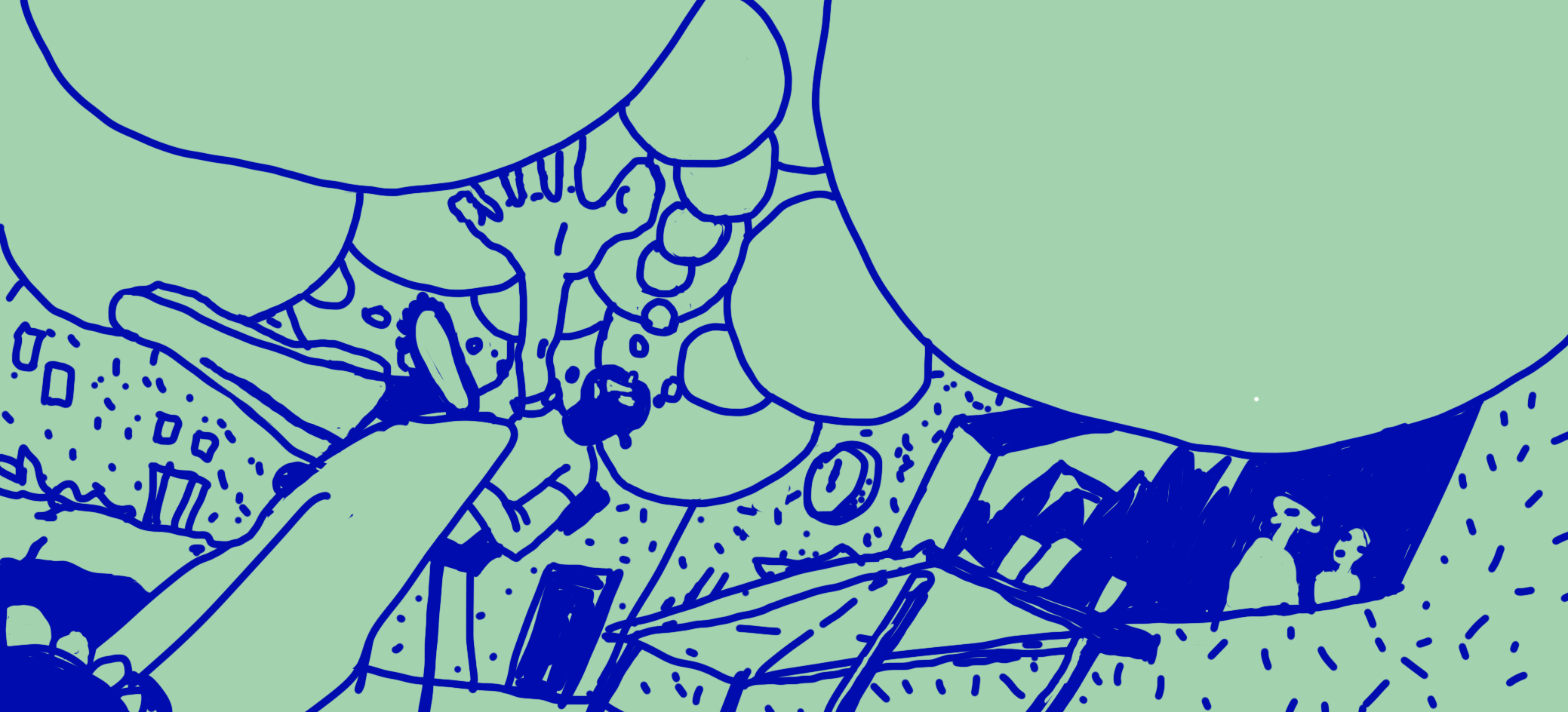Морфоз — ненаследственное изменение фенотипа организма в онтогенезе под влиянием экстремальных факторов среды.
Апанас Афанасьевич чувствовал себя одиноким, потерянным и вместе с тем ощущал предельно тревожную тесноту
мир стал тесным
Он записал эту небанальную, по его мнению, мысль, и настроение начало меняться: возник воздух, простор. К нему будто придвинулась сама свобода, и он отложил ручку на край стола, легко потянулся и, как бы камуфлируя себя расслабленными движениями, ранней зарядкой, всмотрелся своей мыслью в пространственно-временной континуум. Мысль была заметна. В особенности, будучи окруженная людьми
толпой,
Как он запишет позже
стоящей в очереди на воскресный завтрак
Франкфурт был в этом месте и в это время сконцентрирован как никогда, на минуту став выражением подлинной столицы, вроде Берлина, Парижа или Лондона
загадка: почему люди, возникшие там в одном
или самое большее в двух очагах, расселились
и заполнили собой весь земной шар?
Мы-то полагаем, так оно и должно было быть.
А почему? Что их гнало? Почему эти слабые существа
превозмогали невероятные трудности, услащая своими
трупами
гигантские водные и горные преграды? Что их гнало,
от кого и от чего они уходили?
Почему они не обрели своей экологической ниши?
Почему они единственные везде и всюду?
Взгляд блуждал по арабской паре: мужчина в строгом спортивном костюме, и женщина, укрывшаяся в платке, но как-то по-европейски, не по-ихнему. Нельзя, конечно, сказать, что Апанасий не любил арабов или, упаси бог, мусульман, но выразиться противоположно было бы с нашей стороны поступком против совести, да и, более того, истины. Какая-то странная, почти ненавистная ему самому страсть наполнила его белой мускульной желчью, и именно в борьбе с ней он отправил свои глаза куда угодно, лишь бы изменить своей внутренней интенции, прекратить разбирать, остановиться, запнуться в столкновении с чем-то иным, ещё более ему неблизким, в совершенстве своём неродственным. Таким камнем стал круглый припухший азиат, вероятный японец, скрытый в тёмном материально-обеспеченном пальто, которое, будучи вскоре распахнуто, открыло для узнавания: пёстрая внутренняя подкладка привела Афоню к неминуемому и значительному утверждению
Кореец, южный кореец. Какая муха...
Ему ли, русскому мигранту, смотреть на всех с высоты, одевая человека в костюм обыденной номинации, только чтобы ещё раз убедить себя в собственной эксклюзивности, отдать претензию на всё вокруг и прихватить мир, да ещё и в духе не столь любимого Достоевского
другой
Откуда эта возникшая неприязнь к иному и нравственная тревога за «свой» мыслительный акт?!
но ведь природно «чужой», то есть вообще-то, «не мой»,
кто источник неконтролируемой мыслительной силы верховного обвинения...
Прервать процесс.
Хотя бы отдалить приговор
Глаз же продолжал скользить, требуя всё больше и больше улик против своего собственника
сирена!
Фоня вжался всем телом в свой разум, надеясь возглавить или хотя бы схватить себя за узды
замедлить. Контролировать. Или пропустить.
Лучше промахнуться, держаться за мачту, ни в коем случае не попадать в поток, из раза в раз повторяемый; опереться на него всё равно невозможно, отсутствие смысла — вот оно.
Прекратить обыденный ход вещей, вырваться или ворваться, размокнуть пространство привычных суждений, одернуть себя
— проснуться или крепче заснуть —
Всё это вихрилось, мысли гнали слова, отдельные части речи летели, толкались, можно было подумать, что это просто фрустрация
всё забудется само собой, а даже пусть улетучится, лучше — испарится. И не в этих пределах стоит искать спасения
Но напряжение внутри коллайдера только возрастало, бесконечная возгонка стягивала струны, заряжая пращу Давида. Малейшая заминка: вырванный шнурок, пролитая чашка чая — и Апанас уже летел свистом прочь. Светло-серое кислое небо должно было стать тем пространством освобождения, но его не нашлось в углу запертой улицы.
Удар. Звук закрывающегося окна прихлопнутой рамы обратил внимание на город как на субъект. И тут же пришедший свет подчеркнул, но и тем самым отгородил пространство живого от пространства мертвого. Солнце, нашедшее своё воплощение в блеске богатой германской архитектуры пряничных домиков, будто сопротивлялось туристической тени, поглотившей уют старой Европы. Туристами оказались не только евреи, он сам или американцы, но прежде всего и, к его удивлению, немцы. Они сами были лишними в собственном доме, парке, городе
заброшенные. Сюда.
Кажется, что именно так, потеряв под ногами почву, люди и находят веру, бога, отечество, высшие принципы мироздания и иные фундаменты, в которых можно было бы прочно застрять, а может, и впрямь поверить в сущность, множество сущностей, верить настолько, насколько это абсурдно, собрать всю свою волю, признать, более того, потребовать (!) перевоплощения
Он представил лицо ребёнка, надеясь обрести тот первозданный путь всепринятия, получить ясность существа, только что обретшего небо. Он стремглав влетел в младенца —
переродиться, да, в этой семье, пусть буржуазной, пусть ханжеской.
Нет, либеральной. Дохлой. Консервативной. Любой. Правой. Или левой.
Тоже. Нет
Теоретическая и желанная инкарнация открыла свою несостоятельность. Агония бесприютности и пронзающего насквозь одиночества вскрыла инфантильную жалость к своей собственной персоне, и именно в этом положении неуместности он обретает ужас тотальной нищеты. Опостылевшая кофейня, гладкие шины велосипедистов, трескучие коляски, ровные раздражающие своей нетронутостью дороги. Притворная невинность комфорта: ветхий фундамент бытия, скованный манерной девственностью откровенной порочности.
Он вытащил себя и направил
то есть направился,
сопровождаемый строем обреченных солдат языка: подробным арсеналом силлогизмов, лингвистическими схемами, отдельными фонемами и наспех собранными ямбами и хореями. Соглядатаи чужой совести, они преследовали непонятного кого и, главное, зачем. Они как бы изнутри выталкивали душу Фони, но куда? Бессмысленность происходящего в этом побеге вроде бы, напротив, хотела его подбодрить, помочь обрести цели, хотя бы мираж на загробную целостность. Будь его воля, он бы схватился за что угодно: пусть за осознаваемую, пусть иллюзорную, тонкую, хрупкую, нежную хоть бы и луковку. К собственному сожалению, он хорошо знал фольклор политической мысли
выбирающий стабильность не получит в итоге ничего
С этим «ничто» он и стал работать, вспомнив Сизифа, необходимость сопротивляться богам, стоически проталкивая камень в гору. Но у него не было ни горы, ни камня. Сломя голову он нёсся. Да и тут его нагоняли тени спортсменов, домохозяек, собак, подростков: в общем-то людей, то есть на людей похожих. Всё показалось ему ненадёжным, хуже того — ненастоящим. Внутренняя бедность сменила последнюю состоятельность, открыв неприличную пустоту
человек, бегущий от лживой советской действительности, от лживого светского миролюбия, попадает в свободный мир, где ничто воюет ни с кем. Всё разряжено, и в особенности люди. Холостой дух. Здесь нет ничего высокого, низкого. Всё спит. Нет места, где приклонить голову
Он падал, не сходя
то есть стоял на ногах,
и летел
но не рассыпался
А, напротив, сдавливался весом набегающих масс воздуха. Ветер выхолащивал, огрублял, но и закалял: твердел дух. Афанас Афанасьевич деформировался, растягивался и каменел, осанка его приобрела негибкие свойства мебели: жесткость, универсальную непоколебимость. Объёмы смыслов как бы врезались в открывшуюся бесчувственность, двигаясь то туда, то обратно вновь и вновь. Обратно и туда. В этом пике обрастания снежной глыбостью душа, покинувшая родную пещеру, материализовалась. Собралась. И как бы в момент обрела спокойствие: толстую левинскую ниббану. Отсеклось ли всё лишнее? Форма уже начала остывать, лёд растопился, выходил пар, и сладкая тёплая волна пошла по его телу, сродни той, что испытывают люди при падучей болезни
может, это и есть то, чего я на самом деле хочу?
Может, и не жить вовсе?
Да пошло оно всё!
Сколько хорошего есть на земле! Нет, чудная это земля! Чудная!
Слово «чудо» приобрело мистический отблеск, но не божественный, а оккультный, зверский
Чудо — это орудие? Где я?
И впрямь, он оказался в какой-то подворотне. Там были столы, навесы, качели и прочая дребедень. Его раздразнила женщина, старая, статуя, некрасивая, с сетчатым мешком она недовольством в лице обратилась на его выкрик. Не говоря ни слова, осудила его. Но за что? Да, он нелепо кричал, но от боли и безумия человека, познавшего счастье
сильнее
отчаявшегося каторжника
ещё сильнее
личности, да что там: сверхчеловека
разве можно судить за метаморфозы?
Он неожиданно для себя набросился на старуху и остервенело выхватывал сумку с её овощами, хлебами, яйцами, маслом. Сумка рвалась, всё падало, но не разбивалось
Пластмассовость мира! Откровенная глупость бытия! Страшная баба! Страшная! Страшная! Страшная красота!
Тут она не смолчала и стала кричать в ответ, но беззвучно; немость её перешла в ор жестов, мимик
Всё тело барахталось в загадочном ритме. Рука в поэтическом треморе вела своё представление, пытаясь разбудить, пробудить человечество, мир; она звала справедливость, лучше того: милосердие. Я сделал, наверное, ошибку, что вообще связался с этой каргой
Он отпустил сумку, и старуха выпала на асфальт. Ему стало её жалко, и он подбежал к ней, хотел было помочь, но увидел не только отсутствие мольбы, но даже просьбы о помощи. Хуже: невыносимую ненависть к нему самому. За что!? Но она уже не отвечала. Злило ли это его? Наверное
она не хочет моей помощи, она будто умерла, ещё до того как я вступил в схватку. Какая ненависть живет в этой женщине
Его уже отводили в сторону
почему они не понимают меня?
Говорил он как бы про себя, но слышали это всё, и никто толком не мог разобрать речи: язык его был им чужд. Неожиданно он улыбнулся собственной мысли. Мысли инаковой. Мысли о его отрешённости. Он сладострастно пробормотал
отщепенец человеческий
Поглядел в своё отражение — окно утвердило его бытие. Пальцы пересчитали сами себя. Лёгкие наполнились воздухом
здесь кто-то остался ещё?
И тут он прыгнул, вернее сказать, перескочил к жизни чужой: друзей, близких, родственников. Афанас приглядывался, и ему становилось на короткий миг значительно легче. Он с наслаждением выдохнул
хороша же жизнь моя
Демагог — журнал о независимой культуре.
Мы берём интервью у андеграундных режиссёров, выпускаем рецензии на главные книги независимых издательств, рассказываем о новостях культуры, репрессиях, цензуре и релизах, публикуем аналитические материалы о прошлом, настоящем и будущем.
Вы можете помочь рассказывать больше и чаще настоящей живой культуре, подключив ежемесячное пожертвование на Boosty или Patreon. Помните, что Демагог — свободный журнал для свободных людей. Мы зависим только от вас!