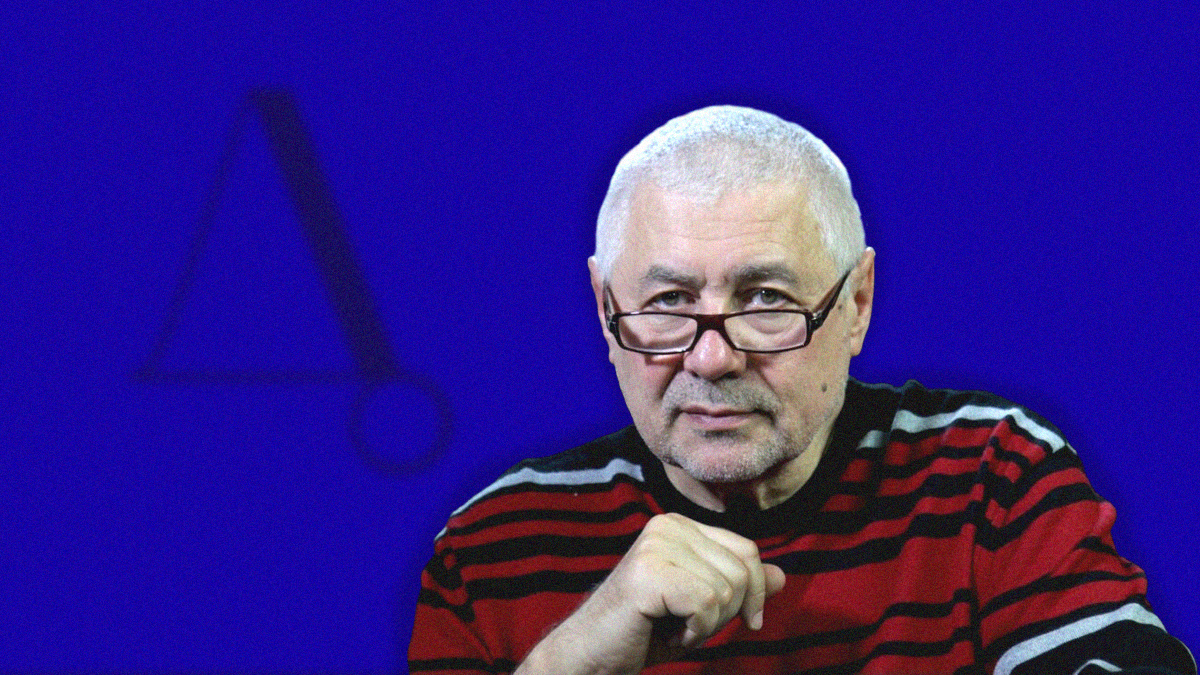Я тоже так думаю, можно начинать, тем более что сегодняшнее сдвоенное занятие, так сказать, объективно несколько скомкано, поскольку я не уверен, что в следующую неделю смогу к вам вернуться, то есть у меня тут некие процедуры на неделю. И я поэтому начну, но начну, может быть, несколько смешанно, чтобы уже не оттягивать. У меня болит горло, поэтому я периодически буду запивать историю молоком. Начнём.
————
Идея этого моего курса родилась уже довольно давно, прямо накануне эпидемии ковид, поскольку было как раз тридцатилетие провозглашения суверенитета России. И я вдруг подумал, боже мой, какая молодая и случайная, в общем, страна: большинство моих детей старше Российской Федерации. И я думал поначалу сделать небольшую книжечку об этом тридцатилетии, потом пришёл ковид, а когда мы вышли из ковида, пришла война, и всё несколько затянулось, а главное, изменилось концептуально.
Я, кажется, уже говорил в каких-то промежуточных лекциях, объясняющих паузу, что если рассматривать происхождение новой России, как по аналогии с происхождением Вселенной из Большого Взрыва, то теоретически всё прекрасно, пока не произошёл второй Большой Взрыв. А 2022 год — это фактически второй взрыв, вторая катастрофа, равномощная первой — 1991 года. Значит, меняется, по-видимому, и концепция.
С другой стороны, факт, что мы проживаем в Российской Федерации как в новообразовании, в стране-артефакте, которая составилась методом вычитания из остатков Советского Союза. И если финал СССР был очень быстрый и неожиданный, то что же такое теперь? И как замыкаются эти два события?
Понимаете, я не вижу этот курс как историю Российской Федерации, как современную историю, как current history. Я вижу её на пересечении истории и политики — как исторический контекст политического творчества. Удачного, неудачного — это другой вопрос, но контекст был, и творчество было. Наша задача — войти в контекст российской истории как проекта. Причём в тот момент, сейчас. Этот момент наступил сейчас и идёт сейчас, когда российская система испытывает себя на излом.
Интересно, что в этот момент проявляются её свойства, проявляется её устройство, если угодно, к чему я надеюсь прийти вместе с вами в итоге этого курса. Я хочу понять и, надеюсь, сумею объяснить, как советские, постсоветские — сейчас уже непонятно как их называть люди — оказавшись после коллапса Советского Союза в свободном падении, смогли не только выжить, но и собрать какой-то переходный — значит транзитный — модуль выживания вместе. Как они сперва отчаивались, а затем начали умеренно преуспевать, и только-только это началось, когда им показалось, что главные опасности позади. Не скрою, мне тоже казалось.
Тут-то и началась самая опасная часть маршрута. А что это значит? Это значит, что никто не управляет механизмом, внутри которого мы оказались, и который был сконструирован, собран, сознательно и бессознательно собран разными людьми. И тем не менее, он представляет сегодня загадку. Он опасен. Мы не знаем, как с ним обходиться. Те, кто выбрал эвакуацию срочную, очевидно, признались в этом незнании и в нежелании ожидать дальнейшего. Теперь мы то и дело будем встречать экспертные ошибки, ошибки исторических экспертов-политиков, которые исходят из какой-то посылки, которую они не дезинтегрируют, не разбирают, кладут в основание. Например, они обычно, вы это увидите во многих текстах и выступлениях, что эксперт говорит “российское общество”. А что это такое? “Российское общество”, “российский режим” — а что это такое? Если бы мы имели дело с исторической нацией, которая меняет какие-то оболочки государственные, общественные, с этим можно было бы согласиться, но ведь мы уже больше ста лет здесь, в России, Красной России, Советской России, потом Российской Федерации, находимся в разного рода сборках. И эти сборки отчасти рациональны, то есть люди хотели чего-то добиться, почти никогда не получали то, чего они хотят добиться, но тем не менее возникало, собиралось в единый ансамбль вот это необычное образование.
Российская Федерация, которую я довольно часто называю российская система, система РФ, не потому что хочу выпендриться, а потому что она не является доказуемым образом нацией, не является доказуемым образом государством. И здесь мы, так сказать, попадаем в каморку папы Карло с очагом, нарисованным на холсте.
Российская Федерация в значительной степени нарисована на холсте и не потому, что кто-то хотел всех обмануть, а потому что слишком торопился, не было времени. Государство схлопнулось, советское — отдельный вопрос, чем оно было, мы об этом будем говорить, было ли оно государством, но оно схлопнулось — в 1991 году, и люди, граждане неожиданно для себя оказались в непонятном для них мире. Дальше пошли разного рода идеологические эмблемы, идеологические символы. И здесь я должен сказать, что в отличие от, скажем, Октябрьской революции, которая покончила с Российской империей, Российская Федерация не была идеологическим проектом. Мировая революция была идейным проектом начала XX века, социализм был идейным проектом, возможно, ошибочным, но был.
Российская Федерация возникла вдруг, ещё в конце 1989 года такой идеи не было, а уже через полгода она провозгласила свой суверенитет и независимость. 12 июня до сих пор отмечается как День России. Даже здесь сейчас это забыто, но очень важно помнить, что это была неслыханная импровизация или случайность, называйте как хотите, потому что сегодня мы подходим к точке, к области, как говорят, сингулярности, где придётся быстро принимать решения, для которых у нас нет достаточных интеллектуальных разработок. И значит, мы рискуем опять сымпровизировать и опять жаловаться неизвестно кому, неизвестно на кого, что нас якобы обманули.
Вы, наверное, довольно часто, то есть могли часто встречать экспертное заключение, что Россия это просто перелицованная советская система. Но опять-таки это утешительный обман, потому что независимо от оценки советской системы, она имела довольно законченную конструкцию. Главные элементы отсутствуют здесь, если не считать некоторого количества людей, которые успели пожить в Советском Союзе, чем нанесли себе непоправимый урон.
Вот, например, у нас часто говорят, что нами правит номенклатура, которая пережила крах Советского Союза и теперь в новом виде продолжает активность, продолжает свою деятельность. Но это самообман. Уже раннее окружение первого президента Бориса Ельцина строилось совершенно не по номенклатурным правилам. Оно строилось по принципу обратному номенклатуре. Номенклатура — это что? Номенклатура — это определённый тип кадрового консерватизма. Это кадры, проверенные на соответствие идейным и поведенческим стандартам. Но Ельцин ничего подобного не делал. Он требовал от своего окружения только прямо обратного. Измены прежним стандартам, прежним правилам и личной верности самому себе — это не номенклатурный принцип. Но он работает и по сей день.
Можно говорить о так называемом патримониальном принципе, то есть в восходящем к ещё досоветским моделям власти, к принципу хозяина, лояльности хозяину. И сам Ельцин мыслит себя, конечно, как хозяина. Кстати, был такой забавный момент: в истории надо присматриваться к деталям, потому что детали обычно показывают на изломе работу стратегических паттернов, стратегических механизмов новой системы. Вот конец 1991 года. Горбачёв удалён из своего кабинета. Скоро будет спущен флаг СССР над Кремлём. В кабинете Горбачёва собираются верные соратники Ельцина, и один из них говорит: “Какую недвижимость отхватили!” — имея в виду Кремль. Он не мыслит государственно, он мыслит как риэлтор, как агрессивный риэлтор, который провёл успешную операцию и приобрёл новые возможности. Правда, Ельцин его останавливает. Здесь называют разных людей. Я не хочу никого обижать — как правило, они отпираются. Но это было, поскольку Ельцин возразил, и это тоже известно: “Не недвижимость отхватили, а захватили хозяйство целой России”.
То есть он уже теперь мыслит себя как хозяин, а не как всего-навсего временный избранный президент. И дальше это будет всё больше и больше проявляться. Эти детали важны, потому что они показывают, что не-государственность начала формироваться уже тут, когда ещё не было ничего, что можно назвать политическим режимом.
Кстати, ещё одна, не скажу обманка, но такая популярная иллюзия, популярное общее место — понятие “режим”. Вы его очень часто встретите. Но понятие “режим” вошло в оборот не так давно.
Вообще всё, что, вам кажется, было всегда, вы с уверенностью можете предположить, что возникло оно недавно. Может быть, даже совсем недавно.
В конце Второй мировой войны, когда планировалось создание организации для послевоенного сотрудничества, которая нам известна как Организация объединённых наций, собралась она в 1945 году впервые на ассамблею. Кто был тогда самым руководителем самого крупного государства в мире, как вы думаете? Самое крупное государство в мире была Британская империя, которой руководил Черчилль. Она была больше Советского Союза. Но Рузвельт исходил из другого принципа, из принципа равенства, заложенного в новую Организацию объединённых наций. И поэтому для него было принципиально, что, скажем, остров Вануату — нация и Советский Союз — нация. В итоге Сталин использовал этот момент для того, чтобы пропихнуть в Организацию объединённых наций аж три голоса, добавив Украину и Беларусь. А Британскую империю туда не взяли. Взяли только отдельные государства, членов империи. Так вот, это понятие “нация” со временем преобразовалось. Все нации в каком-то смысле юридически однородны. И когда в центр стало понятие “режим” — авторитарный, тоталитарный, демократический — все режимы тоже стали типологизироваться.
И лучший способ сегодня, если вы захотите разъярить политолога, особенно политолога со степенью, сказать ему, что есть некоторые нации или государства, не отвечающие понятию “режим” в обычном смысле слова. Это приводит их в ярость обычно, потому что они боятся, что воскреснет принцип неравенства под видом принципа уникальности.
Но что делать? Советский Союз после вполне уникальной большевистской революции — другой вопрос, была ли она настолько полезна, как тогда казалось, но это была революция, замышлявшая установление мировых коммунистических порядков на всей планете — породил странное образование после 1917 года, ту самую Красную Россию, а потом она вдруг распалась. Мы будем прорабатывать эту тему, сейчас я просто упоминаю об этом.
Она распалась, и те нации, которые уже были нациями раньше, входя в неё, такие как страны Балтии, как молдаване, как грузины, армяне — они не испытали такого уж большого потрясения, они просто обернулись к своему обычному формату. А Россия никогда не была (Российская Империя и после её уничтожения) национальным государством, поэтому люди оказались в пустоте. Они, как Алиса у Кэрролла, провалились в нору и некоторое время просто не знали, выживут они или нет, останутся ли они живы, найдётся ли у них работа или нет, потому что обнуление было практически тотальным.
И мне имеет смысл вспоминать опять-таки не ради прикола, а для того, чтобы понять, что это не было каким-то, не знаю, злодейством, как потом стали считать многие из них, преступлением, хитрым заговором против русских людей. Кто виноват, что русские люди не построили государство, не занялись nation building? А что они делали? Они выживали, они использовали остатки, дееспособные остатки Советского Союза, ресурсы, как они говорят, для того, чтобы собрать их в какой-то новый жизнеспособный модуль под зонтиком “Российская Федерация”.
Как я уже говорил, этот зонтик сам по себе представлял декорацию, представлял временную опору. Сейчас бы сказали, что Россия была пиар-проектом накануне нового 1990 года, и этот пиар-проект из всего ряда случайностей превратился в заменитель государства. А потом начался естественный процесс импровизации. Ну, так же, как представьте себе, вы после кораблекрушения оказались бы в открытом море наподобие Робинзона, но Робинзона, правда, выбросило на довольно плодородный остров.
И оказавшись в непонятном пространстве без очерченного горизонта, без почвы под ногами, люди начали комбинировать.
И эти комбинации превращались в их глазах в построение государства. Но государство они не строили. Они строили какой-то комплекс средств выживания, в центре которого, как они считали, должна находиться власть. Какая именно власть — неизвестно. В начале девяностых годов считалось, что эта власть будет демократической. Никто против этого не возражал. И тут опять-таки некоторая западня. Всё, что выглядит как западня, на самом деле является каким-то пучком возможных сценариев, каждый из которых имел шанс быть реализован, разумеется, за счёт других. Реализован был какой-то из них. Почему? Мы ещё не знаем. Но всегда реализованный сценарий начинает представляться как единственно возможный. И здесь мы попадаем в самую известную историческую ловушку. Дело в том, что нереализованные сценарии, потенциально альтернативные, не исчезают в никуда. Люди выбирали между ними, сознательно или нет, умно или очень глупо, в данном случае это неважно, а потом возникает некая ниточка, они переходят к другому сценарию и она уплотняется.
Но то, что было возможным, другие пути — они не исчезают, они присутствуют как латентные коммуникативные каналы, дожидаясь своего места, своего кризиса. Во многих случаях выбор сценария является почти бессознательным и незамеченным, потому что его не обсуждают. Вот, например, осень 1993 года, уже после расстрела Белого дома в кабинете Ельцина в Кремле эксперты обсуждают варианты новой Конституции. Той самой, которая нам известна как Конституция 1993 года, она, во всяком случае, в своей части действует и сегодня. Эксперты там те, кто считает себя демократом, и Ельцин тоже считает себя демократом. Эксперты написали для Ельцина модель российского президента, согласно которой власть распределена по нескольким ветвям. Вы знаете: законодательная, исполнительная, судебная; а президент вынесен за пределы этих ветвей. И как говорил один из участников этого обсуждения: “Борис Николаевич, вы будете править, как английская королева” (тогда ещё никто не сомневался в том, какая английская королева — Елизавета). То есть у президента представительские функции. Он реально не управляет, не руководит страной в обычном смысле слова. Ельцин не возражает.
И вот это обсуждение подходит к концу. Мы даже точно не знаем, в какой день это было, какая дата этого обсуждения, имевшего необозримые последствия. И он говорит, мне всё очень нравится, только обязательно надо, чтобы у меня было право издавать указы, имеющие силу закона. Эксперты уже тогда не могли возразить президенту, что ломает модель. Всё равно что английская королева будет принимать за парламент законодательные решения. Но они не стали ему возражать. Это было вписано в Конституцию. А эта точка находится где-то примерно в ноябре 1993 года, а 24 февраля 2022 года президент России написал указ о начале войны. Право на что он получил благодаря вот тому самому якобы недоразумению осени 1993 года.
Я думаю, что случайности и детали имеют значение. В принципе, какое-то солидарное мнение экспертов, что так шутить с Конституцией нельзя, тогда, наверное, предоставило бы какой-то другой выбор. Я не знаю, этот выбор тоже мог бы завести в какой-то тупик, но другой. Это не было предопределено. Поэтому продвигаясь в политике или в истории, что примерно одно и то же, надо помнить, что у вас всё время будут не какие-то атомарные факты, а факты, которые являются результатом чьего-то выбора. И они способны меняться. Причём иногда ужасающим образом меняться, а иногда позитивным образом.
У Ельцина ведь была возможность сохранить Советский Союз и убрать Горбачёва, который мозолил ему глаза. Но для этого надо было просто немножко больше подумать над возможностями, которые у него были. Законодательными возможностями. Легальными, не какими-то интриганскими. Ведь если бы Ельцин создал Совет из глав республик, Украины и других, а Горбачёву оставил роль, которая у него была, руководителя Верховного Совета СССР, то фактически он создал бы, почти не меняя Конституции, другую форму власти, другую модель, в которой, может быть, — это надо проверять, смотреть — не было возможности для раскола России и Украины, который в конце концов привёл к современной кровавой бойне. Но, разумеется, они могли переругаться. Когда вы делаете выбор внутри этого пучка альтернатив, у вас нет гарантии, нет страховки, что выбор, который вы сделали, даже если он выглядит лучше сегодня-завтра, не окажется послезавтра более опасным.
Довольно много есть книг по так называемой параллельной истории, где всегда получается, что чего-то плохого не происходит в силу случайных причин, и тогда люди оказываются в каком-то волшебном саду, где удовлетворяются их желания, их мечты. Но это не так. Конечно, Советский Союз можно было разными способами, я даже думаю, многочисленными способами сохранить в 1991 году. Но из этого вовсе не следует, что в 1992 или в 1993 году этот сохранившийся Советский Союз не оказался бы снова же нежизнеспособен. Альтернатива не даёт гарантии. Единственное, что она делает, она открывает путь иногда к более позитивной стратегии.
Примером здесь можно назвать Соединённые Штаты Америки, которые после Американской революции сделали ставку на конституционную модель и жёсткое следование этой модели, и хотя прошли через массу ужасных и кровавых событий, многие из которых сама же Америка инициировала, они в целом выработали некий маршрут следования, чего, к сожалению, пока не скажешь о России. Россия раз за разом, по ещё неизвестной нам с вами причине, надеюсь, она прояснится в ходе курса, теряет возможность найти этот более безопасный, более выгодный, более процветающий курс. Поэтому есть даже такое выражение у тех самых недобрых политологов, как “русская колея”. Предполагается, что Россия вечно попадает, а может быть и будет всегда попадать в какие-то передряги, и это где-то записано, как какая-то программа, как программный баг внесено в её софт, в её устройство.
Я сказал, произнёс слово “альтернатива”. Это термин, принадлежащий Михаилу Гефтеру — историку, философу, умершему давно, в 95-м году, в конце 20-го века. Он настаивал на том, что история – это плод взаимодействия конструирования и случайности. Никогда нельзя в ней всё сконструировать — когда-то, кем-то, однажды. Конструирование никогда не получалось таким, как его планировали, вмешивалась случайность. Поэтому когда вы слышите, например, что если большевизм был тоталитарным учением (а он нёс, несомненно, в себе тоталитарный элемент, здесь спора нет), то из этого с необходимостью выводится советский тоталитаризм. А из советского тоталитаризма, который, кстати, многие считают существующим непрерывно до наших дней, с какими-то краткими перерывами, выводится всё остальное — сталинский террор, лагеря, тюрьмы и тому подобные вещи.
Здесь несколько подвохов. Что такое советский тоталитаризм? Классиком, разработавшим это понятие, был Збигнев Бжезинский в трудах очень давних, по-моему, начала 50-х годов. Хотя само понятие тоталитаризм принадлежит, как известно, Бенито Муссолини, который его рассматривал как позитивное. Но уже в начале 60-х, через 10 лет, Бжезинский отказался от него как от научно пустого понятия, которое ничего не объясняет. Это не помешало политологам, особенно российским, использовать это слово до сих пор. И до сих пор российские либералы борются с тоталитаризмом, который был дезавуирован его отцом Бжезинским 70 лет назад.
Гефтер резко возражал против любой идеи механического следования безальтернативных процессов, напоминая, что автором идеи безальтернативности в Советском Союзе был никто иной, как Иосиф Сталин. Иосиф Сталин действительно верил и проводил эту идею, что из одной эпохи вытекает следующая эпоха, из происков врага вытекает то, что враг всегда был врагом, начиная ещё чуть ли не со школы и уж точно с юности. И, собственно говоря, это версия сталинских уголовных процессов знаменитых конца 30-х годов, где участникам, они все были практически расстреляны, как бы приписывали какие-то вредительские намерения времён их ранней молодости, которых не было, но которые легко допустить.
Гефтер говорил, что факт – это всегда конструкция, неотделимая от рационального выбора, но, конечно, и от порчи рационального выбора, поскольку люди не боги, они не всеведущие.
Ну, например, у нас в нашей истории есть яркие примеры. Самый яркий пример — это заговор Корнилова конца августа 1917 года. Помимо того, что весь заговор был сплошным недоразумением, Корнилов, конечно, имел целью раздавить большевизм и уничтожить его вождей, чтобы продолжать войну, которую на самом деле солдаты уже не хотели вести. И этот заговор начал осуществляться, но привёл к тому, что в силу серии недоразумений, ошибок понимания, в частности со стороны Керенского, возник конфликт Корнилова с Керенским, и в итоге всю выгоду от этого заговора или путча, как сказали бы мы сегодня, получили большевики и никто другой. Большевики, которые как раз в конце лета 1917 года пришли в упадок и были, возможно, лёгкой добычей. А теперь они оказались в положении своих противников. Они больше не были заговорщиками, заговорщиками были Корнилов и корниловцы.
Если вы помните что-то из 1991 года, тоже из конца августа, практически те же дни, то же произошло: тогда противники Горбачёва выступили против него, выступили бездарно, провалились и похоронили не только себя, но через некоторое время Горбачёва и Советский Союз. Чего они, безусловно, не хотели.
История состоит из россыпи таких случаев, которые собираются из пустяков в ансамбле колоссальной мощности.
И здесь наступает время политиков, которые могут или не могут овладеть этим процессом, врезаться в этот процесс, оценить возможности, которые в нём возникают, и применить их. Но ещё раз скажу, что и это очень опасно.
Здесь я имею уже некоторый собственный опыт 90-х годов, когда я и мои коллеги, кружок моих коллег, решили кое-что исправить в русской истории, используя новые возможности, которые давали выборы, избирательные кампании и новая роль медиа в России. А именно — тогда возник интернет. Он возник немножко раньше, но пришёл в Россию в середине 90-х годов в новом качестве, в качестве всемирной сети. И можно сказать, размытый довольно кружок интеллигентов решил вмешаться в то, что нам виделось как распад государства Российского. И кое-что поправить в происходящем. Разумеется, мы вовсе не были намерены совершать что-либо незаконное, тем более что-то ломать, ну и, конечно, объявлять кому-то войну.
Союз распался, мы не хотели его восстанавливать, но новая государственность Российская Федерация была такой хрупкой, такой нестабильной, что казалось, её надо усилить, причём быстро усилить. У нас перед глазами была война в Югославии. А как можно быстро усилить? Например, кое-что ускорив, срезая некоторые углы, как говорят русские мужики, совместив выборы с картиной, если хотите, спектаклем быстрого усиления центральной власти.
Но здесь была ошибка, которую мы не замечали, потому что центральная власть в России — это не вполне то же, что власть как таковая, не вполне то же, что не только демократическая, а просто даже местная власть. Центральная власть в России — это образование довольно парадоксальное, которое как раз и заменяет русскому народу национальную идентичность.
Отсюда понятие “русский” как прилагательное. Почему вообще, собственно говоря, национальная идентичность должна выражаться прилагательным? Чей русский-то?
Центр власти, образовав особый этаж управления страной, неполного, ограниченного, но монополизирующего распределение благ, очень удобен для идентификации. Мы видим это сегодня. Мы видим, как люди, иногда очень интеллектуально искушённые, образованные, не задумываются идентифицировать себя с властью. Почему, собственно? Где здесь был их рациональный выбор? Выбора не было, потому что сам центр исключает представление о реальном выборе.
И вот в 90-х годах казалось, что если быстро, ускоренными темпами укрепить московский центр власти, Кремль, как часто говорят, а он был довольно слабым, сейчас даже вам трудно это представить, в какой степени слабым, то можно создать временную ситуацию, переходную власть, которая будет держать безопасность и целостность страны, пока вырастет новое поколение, политическое и просто возрастное.
Это казалось почти очевидной идеей. Надо было только выстроить механизм, машину выборов, машину воздействия на избирателя таким образом, чтобы он избирал лидеров с нужной государственной повесткой, не случайных людей. И вы знаете, это удалось. Машина была выстроена во второй половине 90-х. Я принимал в этом заметное участие, но мы не учли пустяк. Маленький пустяк: государства-то нет, и власть будет стремиться вобрать в себя, втянуть в себя любой действующий механизм, поскольку она нуждается в поддержании.
Конечно, этот механизм, комбинирующий, как мы тогда говорили, медиаполитическое управление сознанием, был втянут, превращён в один из институтов власти, но не государства. И к сегодняшнему дню развился в достаточно чудовищный аппарат подавления сознания. Это даже не пропаганда в обычном смысле слова, потому что идеи здесь не нужны. Здесь важен прессинг на сознание. Штаб-квартира этого механизма находится там же, на Зубовском бульваре, где давным-давно, 20 лет назад, два этажа занимал наш Фонд эффективной политики. То есть, в корректировке истории можно преуспеть, но преуспев, вы рискуете нарваться на эффект бабочки, как его назвал Рэй Брэдбери. То есть на совершенно неожиданное искривление возможной реальности таким образом, что вы начинаете думать: Ах чёрт! Лучше бы мы не вмешивались в этот процесс!” Это тоже ошибка, потому что не вмешиваясь, вы могли попасть в другой тупик истории, в другой затерянный мир, в другой “парк юрского периода”. Так что безопасной ситуации в России вы не найдёте.
Я резко однозначно высказался по поводу возможности неучастия в истории. Но у нас сегодня нет такой возможности, хотя ещё недавно она была. Если вот вы возьмёте историю Французской революции, многие её современники в 1789 году 14 июля наблюдали, как в самый разгар революционного мятежа в Париже на берегу Сены сидели невозмутимые рыбаки и ловили рыбку, совершенно не участвуя в этом большом всемирно-историческом эпизоде. Но и мы в Москве видели это совсем недавно, 4 октября 1993 года я на площади перед Белым домом видел, как под мостом, на котором стояли и били по Белому дому танки, сидело несколько рыбаков и тоже ловили рыбку. Они были закрыты мостом и осколки не могли туда попасть. Они, видимо, не хотели прервать любимое занятие, прежде чем всё-таки в конце концов ушли. Увы, тогда у нас не было мобильных телефонов с фотоаппаратами. Но даже мировые войны, первая и вторая, не могли достать всех на планете, хотя назывались мировыми.
Кому-то повезло, кому-то не повезло, но с появлением ядерного оружия достать можно любого. А значит, возникает задача управления, контроля альтернативности и управления альтернативным поведением политическими средствами. Я не говорю о заговоре. И сегодня отказаться от этого значит — отказаться от всякого.
Нельзя отказаться от всякого участия в политике и понимания того, куда она ведёт, а затем стать жертвой этого. Поэтому сегодня мы находимся, я бы сказал, в таком состоянии очень странной войны со всем миром, где цели неясны и неизвестны. И именно сегодня, когда сама эта беда стала возможной, потому что за 30 лет люди в России привели себя в состояние, когда не влияют на принятие решений, и это нельзя объяснить только авторитаризмом, об этом тоже я буду говорить. Теперь они сегодня подходят к линии, к красной черте, где им придётся принимать моментальные решения, а времени учиться уже не будет. Точка. Оцените дистанцию. Совсем недавно по историческим понятиям, 30 лет назад, 23-го, если не ошибаюсь, августа 1991 года, несколько тысяч москвичей наблюдали свержение, аккуратное, деликатное, но свержение памятника Дзержинскому на Лубянке, которая тогда, кажется, называлась тоже площадью Дзержинского. Они были немножко пьяны, многие из них, но были радостны, потому что они победили не кого-нибудь, а вроде бы всемогущую власть и в качестве победителей разошлись по домам. Чем эти люди отличаются от парижан 14 июля 1789 года? Это были в основном, кстати, интеллигентные, образованные люди, не какие-нибудь парижские мясники и дворники. Так вот, они отличаются тем, что парижане взяли Бастилию 14 июля, а эти люди, москвичи, её не взяли, а предоставили начальству, которого они даже толком всего не знали, знали Ельцина, а кто там ещё вокруг — это даже не важно. Предоставили брать Бастилию начальству, чтобы не пачкать руку. Они не захватили, не заняли практически не охранявшийся тогда Центральный комитет КПСС, там рядом, на Старой площади, теперь администрация президента.
И опять-таки, маленькое событие, причём события, которые не произошли, в истории вообще чрезвычайно важны. Не только события, которые произошли, а иногда ещё важнее события, которые не произошли. Они разошлись, сфотографировали на прощание Дзержинского в петле над площадью и оказались во власти начальства и его планов. То есть они, в отличие от французов, не сделали заявку на создание новой демократической нации. И это тоже очень и очень важно, и стоило им очень и очень дорого.