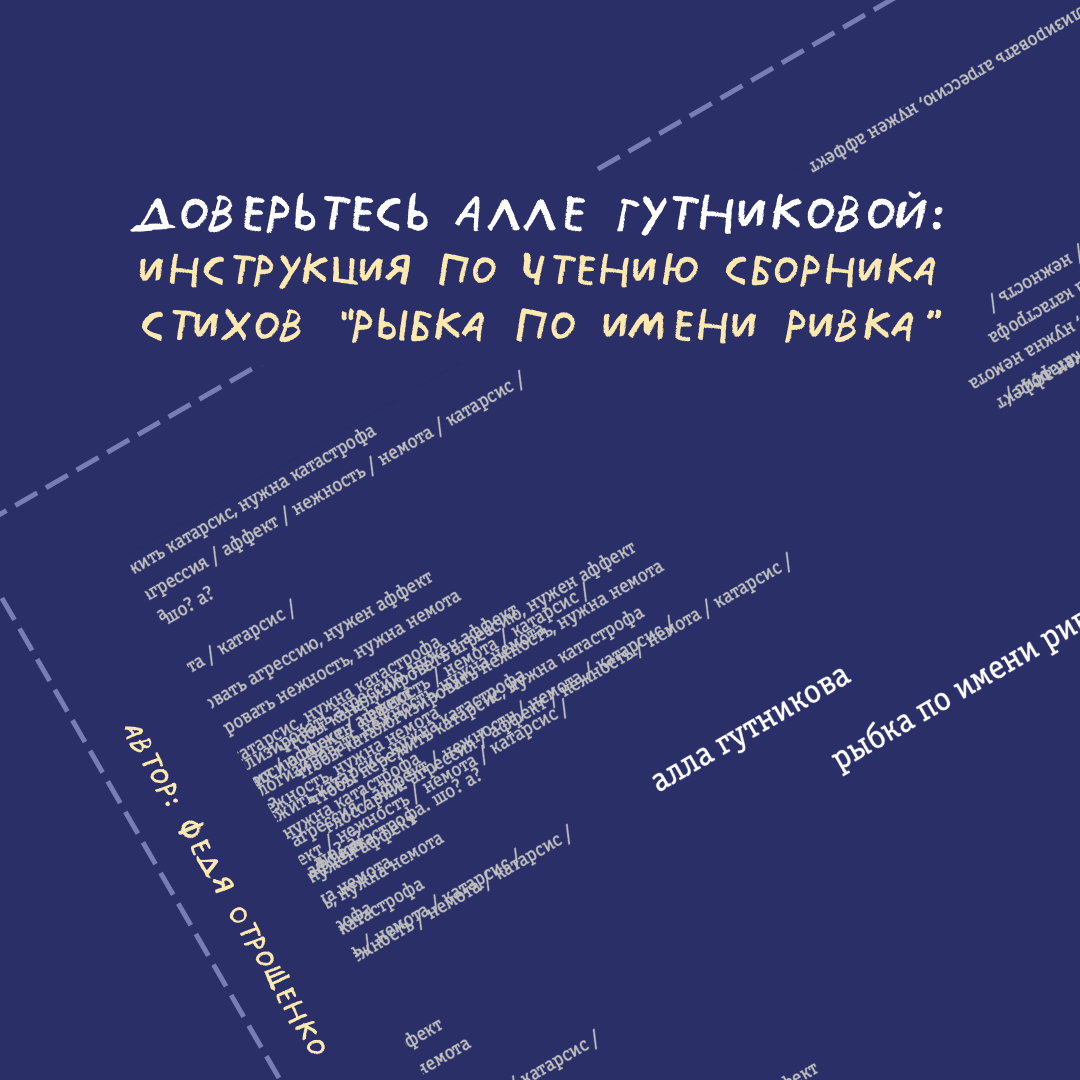Царь Соломон, Мартин Бубер, Вальтер Беньямин, Примо Леви, Сьюзен Сонтаг, Эдуард Багрицкий, Пауль Целан, Сергей Эйзенштейн, Андрей Платонов, Ролан Барт, Мишель Фуко, Михаил Кузмин, Булат Окуджава, Ида Рубинштейн, Фёдор Достоевский, Зигмунд Фрейд — напоминает список летнего чтения для 16-летнего псевдоинтеллектуала, как говорили у меня в школе. Но это все имена, что встречаются в рецензии Александра Маркова на книгу “рыбка по имени ривка” Аллы Гутниковой.
Лев Оборин в своей рецензии на тот же сборник стихов более лапидарен: Ирина Токмакова, Александр Пушкин, Марина Цветаева, Михаил Гронас, Григорий Дашевский, Олег Юрьев. Однако надо отдать должное — рецензия Маркова в два раза объёмнее оборинской (в первой 8382 знака, а во второй — 4803).
Процент–два от всего текста у одного и второго в сравнительно небольших рецензиях занимают просто имена, на которые прямо или косвенно ссылается Гутникова в своих стихах. Примечательно при этом, что нет ни одного имени, которое было бы в обеих. Постмодернизм жив? В творчестве Аллы Гутниковой — определённо. Коллаж, монтаж, повышенная интертекстуальность, концептуальность — все эти термины легко приладить к анализу её стихов. Но в сущности куда их нельзя приладить? Как про любую цитату любого автора можно сказать: “Это остранение”. И будете правы.
В 1930 году эпилогом к русскому формализму вышла статья Шкловского “Памятник научной ошибке”, где он пишет: “От формального метода осталась терминология, которой сейчас пользуются все”. И по гамбургскому счёту (простите за невольный каламбур) оказался прав. Более того, сами термины настолько истёрлись, что потеряли всю свою научную точность. Конечно, это касается понятий не только формальной школы, но и большой части гуманитарной науки.
Александр Марков пишет: “Одного читатель не должен делать — отождествлять себя с каким-то «я», реальным или воображаемым, чужим или даже своим, но не вполне продуманным. Только с «ты», с собеседником; с тем, к кому обращены самые важные слова”. Но что за “ты” подразумевает авторка, а за ней и автор, ведь в действительности в этих стихах тыканий встречается порядочно? Здесь происходит раздвоение “ты”, потому что в русском языке мы используем такое местоимение не только при обращении к собеседнику (как в “Евгении Онегине”: “Кто б ни был ты, о мой читатель, / Друг, недруг, я хочу с тобой / Расстаться нынче как приятель”), но и говоря про любого человека (как у Блока: “Когда ты загнан и забит / Людьми, заботой иль тоскою”), а в дневниковых записях, которыми во многом и оказываются стихи Гутниковой, это и обращение к самому себе.
Но допустим, что это не дневниковое обращение к себе и речь здесь не идёт об умозрительном человеке, а “ты” — читатель, с которым Алла Гутникова ведёт непростой диалог, но всё равно предполагаемый собеседник не очень ясен.
Возвращаясь к именам и постмодернизму, стоит сказать, что подборка Льва Оборина более точна, особенно в отношении Гронаса и Дашевского — поэтов поколения 1990–2000-х годов. Даже если, прости господи, ориентироваться на соцсети поэтессы, два этих имени особенно для неё важны. Григорий Дашевский рассказывал в 2012 году журналу OPENSPACE.RU: “Сверхплотная цитатность в перестроечных стихах Кибирова была совершенно уместна, потому что тогда было время хоронить общих мертвецов — всех сразу, и советских, и русских классических — и в последний раз их собрать; но с тех пор это окликание мёртвых превратилось просто в гальванизацию, как, например, в стихах Быкова — они потому и популярны, что верно отражают наше нежелание расставаться с этими мертвецами, нас будто бы до сих пор объединяющими. Ведь цепляние за узнаваемые цитаты, размеры, образы в популярных стихах происходит во многом от страха реальности, от страха оказаться среди чужих, от страха признать, что уже оказался среди чужих. Нет уже никаких цитат: никто не читал того же, что ты; а если и читал, то это вас не сближает. Время общего набора прочитанного кончилось, апеллировать к нему нельзя. <...> Среди тех, кто пишет сейчас, само это ежесекундное обнуление всех предыдущих знаний и умений в пользу абсолютного осознания текущей ситуации, полного владения ею есть в стихах Гронаса. У него ничего не оставлено за рамками стихотворения, всё дано прямо в нём самом: вся ситуация дана здесь, все связи установлены прямо здесь, и тема их прямая — что у нас ничего не осталось”.
Стихи Гутниковой в этом отношении стоят в оппозиции к Дашевскому с Гронасом, но и не выполняют ту же функцию, что у Кибирова или Быкова. Несмотря на множество “ты”, обращения к читателю не предлагают диалога. Читатель должен быть молчаливой галлюцинацией. Мы должны лишь верить в то, что мы существуем. И вера, доверие, на мой вкус, главная категория при чтении сборника “рыбка по имени ривка”.
Начинается книга с предисловия Линор Горалик. И здесь нужно поверить, что это предисловие, а не верлибр: строчки доходят лишь до середины страницы, поэтому когда я первый раз стал листать книгу, то никак не мог найти предисловие, сразу начинаются стихи: “Гейне верить нельзя: положим, мир / рождается с человеком, мир умирает / с человеком; но что посередине? Мир растёт…”. И только через полторы страницы курсивом приписано “Линор Горалик”.
Хорошо, мы поверили, что это не гигантский эпиграф к сборнику, а предисловие. Но с первого же стихотворения мы должны поверить, что нам стараются что-то сказать.
ривка ривкина
шира ширим
р-р-р-р-р-р
ш-ш-ш-ш-ш
это тайна
голубой глоток
(она находит себя
и пустую земную воду)
(мы об этом
занимались молчанием)
Неподготовленному читателю слишком легко споткнуться о непонятность, о непройденные тропы, закрыть сборник и проклясть всю поэзию. А подготовленному читателю слишком легко споткнуться о понятность, о чересчур пройденные тропы, закрыть сборник и проклясть всю поэзию. Но мы не проклинаем, а доверяемся, соглашаемся, не спорим, молчим.
Уже с десятой страницы нам нужно довериться снова: это не дневник, это сборник стихов. Например, вот такое стихотворение:
5 апреля, 23:52
поэтому я боюсь слушать про целана и его любовь, потому что думаю, что целан может любить, а я нет, аронзон с ритой могут, а я нет, кто там еще. набоков с верой. я вот правда хочу мужа. взрослого еврейского мужа, чтобы было очень сильно и очень все понятно, потому что я запуталась
Читатель помнит, что в поэзии не обязаны быть рифма и размер. Читатель знает, что поэзия может иногда записываться “в строчку”, а не “в столбик”. Читатель верит, что стихотворение может быть в виде дневниковой записи. Читатель не проклинает, доверяется, соглашается, не спорит, молчит.
На двадцатой странице основную часть стихотворения занимает скрин из книги датского филолога Кристофера Нюропа “О поцелуях. Культурно-исторический очерк”, в которой автор классифицирует поцелуи. Этот скрин обычно переходит из одного студенческого чата в другой, а тут оказывается центром стихотворения. Но и в это читатель должен поверить. Ещё через несколько страниц стихи превращаются в списки, в схемы кройки и шитья, потом вместо стихотворения Гутниковой приводится стихотворение Токмаковой, потом стихотворением становится уведомление на телефоне и, наконец, стихами становятся ссылки на текст Гутниковой в Доксе и последнее слово. И во всё это нужно поверить. Поверить в нежность, хрупкость и ценность слов.
Если поверить стихам вы не готовы, то поверьте уж мне: читать эти стихи вам не нужно. Бросьте. Но если вы хотите им довериться, то доверяйтесь полностью, не ставьте под сомнение ни строчку, ни слово. Только так можно прочитать сборник Аллы Гутниковой.
Простите за ужасную пошлость, но стихи Аллы Гутниковой дают ответ на вопрос: возможна ли поэзия после Освенцима? Нет, не возможна. Можно лишь собрать осколки, попытаться их склеить, но швы не пропадут.
И напоследок анекдот: заходят как-то в бар царь Соломон, Мартин Бубер, Вальтер Беньямин, Примо Леви, Сьюзен Сонтаг, Эдуард Багрицкий, Пауль Целан, Сергей Эйзенштейн, Андрей Платонов, Ролан Барт, Мишель Фуко, Михаил Кузмин, Булат Окуджава, Ида Рубинштейн, Фёдор Достоевский, Зигмунд Фрейд, Ирина Токмакова, Александр Пушкин, Марина Цветаева, Михаил Гронас, Григорий Дашевский, Олег Юрьев…