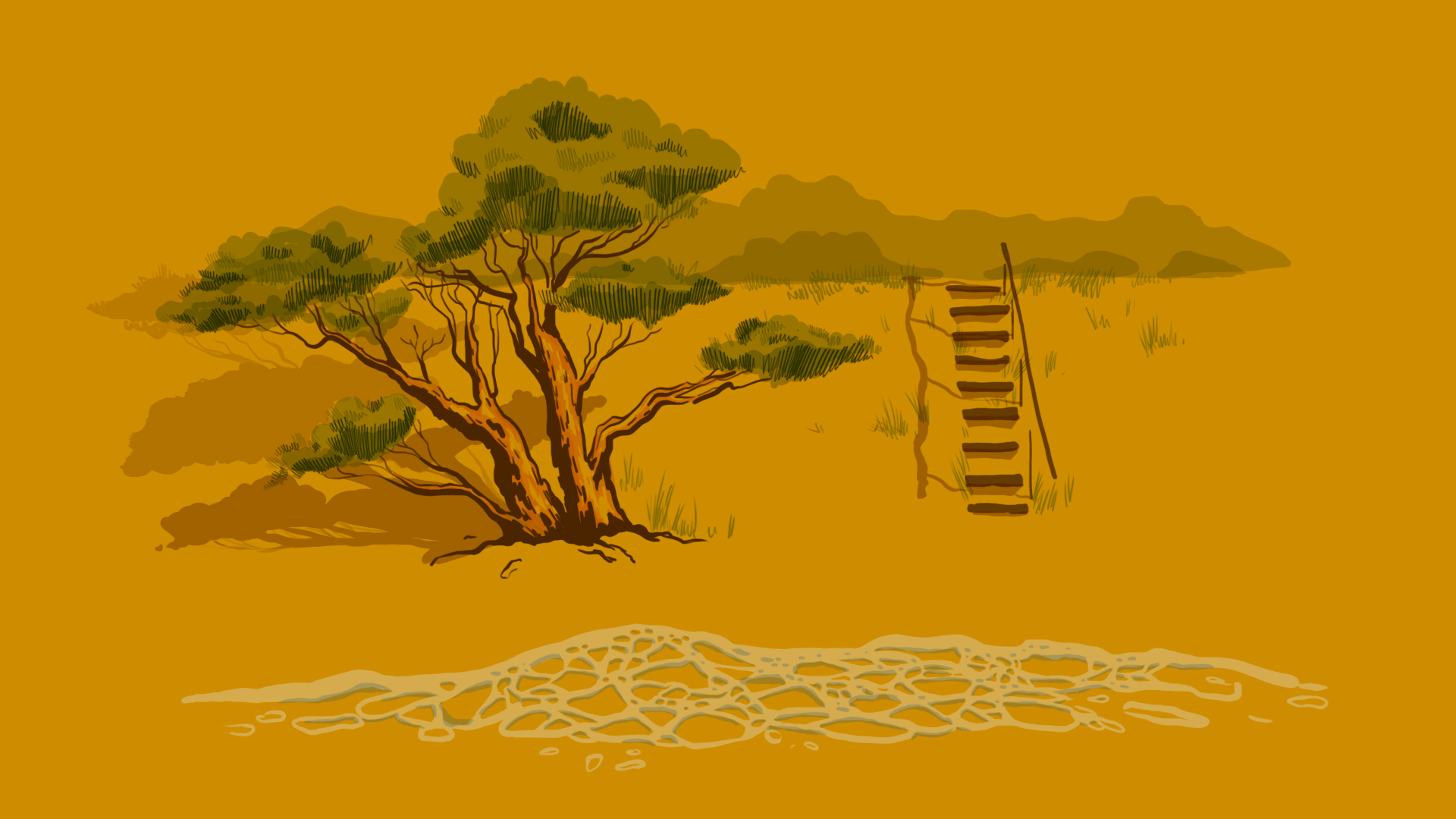Стихи Чернышёва объединяет общая проблематика, которая заключается в невозможности быть сейчас — будь то позднепутинская Россия или зыбкое пространство эмиграции. В общем-то можно реконструировать центральный “сюжет” большинства стихов Чернышёва — попытка преодоления, выхода за границу.
Однако основная трудность в реконструкции этой идеи в подборке стихов Васи Чернышёва, вышедшей на “Демагоге” в начале апреля, заключается в том, что подборка “избранного” или “лучшего”, к сожалению, едва ли может дать представления о всей поэзии автора. Ведь является лишь частью чего-то более цельного и единого, поэтому важно (хотя бы кратко) показать, что за ней стоит.
Мне видится, что автор намечает два основных пути решения проблемы, которые, правда, довольно тесно переплетены друг с другом, однако одна последовательно сменяет другую с течением письма и времени. Первая — это эскапизм, попытка альтернативы, которая отражена в раннеэмигранстких стихах.
Эта первая попытка побега в пространство воображаемое, сказочное:
балтийское
дюны, сосны, катер, ветер,
искры соли в волосах
и далекий, длинный берег —
золотая полоса.
сосны, радиоприемник,
ты, напившись коньяком,
зашвырнула кеды в море
и танцуешь босиком...
просидеть с пустой бутылкой
на поваленном стволе
и, ослепнув от рассвета,
комаром застыть в смоле.
7/7/22
*Все стихи цитируются по тг-каналу “вася чернышёв”
До определённой степени это пространство мечты, в нём нет времени, реальность сокращается до мига и застывает в сознании удобным воспоминанием — “глотком счастья”, который необходимо принимать внутрь в чрезвычайных ситуациях. Тем не менее, это воспоминание, опрокинутое в будущее со словами: “И пусть теперь всё будет так. Дорогое всё, не двигайся”.
Едва ли что меняется, если прошлое и будущее поменять местами — они оба одинаково не принадлежат настоящему. Это особенно ярко видно в более истерично-мечтательном “Поедем в Грузию! Да хоть на почтовых!”, которое кончается подчёркнуто фантастически:
И саперави выпьем из реки,
И досыта хинкали наедимся,
И потеряем ум и кошельки.
18/5/22
В этих стихах ровным счётом ничего не сказано о Грузии — ни слова, автор лишь доводит до абсурда стереотипы; это стихи, написанные “из России” — о состоянии в России. Этот “побег” оказывается ложным, он, скорее, констатирует запертость героя, стремящегося “комаром застыть в смоле”: и сознание, и мир, и сам герой становятся чем-то неразрывным и замершим.
московское
проснулся — муха бьется о стекло,
капель, мотор и пыльный подоконник.
на улице безлюдно и тепло:
последний снеговик, последний дворник.
все вертится в тяжелом дежавю:
сырой бульвар, капельное стаккато
и на заборе надпись i love you —
признание в любви без адресата.
12/7/22
В этих стихах странным образом преломляется позднесоветское мироощущение, доставшееся нам в наследство, оно состоит из кухонных разговоров, политических анекдотов, самиздатских книг и посиделок под гитару. Его важное свойство — ностальгия по “свободному” времени. Другой источник этого переживания и способа говорить о нём. Мне представляется, это обобщённый мир текстов треков “новой русской волны”, которую принято отсчитывать от альбома Downshifting Mujuice’а и вести вплоть до, наверное, Раскраски для взрослых Монеточки, а, может, и дальше. Это мир то ли ребёнка, то ли подростка, который “строит <снежную> крепость” и просит свою девушку “засосы замаскировать”.
Так начинается “снег с дождем, я в летних кедах…”, его первое четверостишие буквально можно спеть под гитару:
снег с дождем, я в летних кедах
ты с подругой, я курю
надоели сигареты
точно брошу к ноябрю
Но потом появляется что-то другое — лучшее, что есть в стихах Чернышёва — скромное обаяние абсурда, его “второй побег”:
снег с дожем, вокзал унылый
в ботаническом саду
вдоль подснежников и лилий
в летних кедах я иду.
снег с дожем, и нету денег
надоела даже ты
точно брошу в понедельник
снег идет, цветут цветы.
Здесь на смену приходит иное мироощущение — парадоксальное, зазеркальное, перевёрнутое. Природа этого абсурда иная, он добрый и милый, “метаироничный”. Если классический абсурд Беккета, Ионеско и всех сочувствующих констатировал состояние распада привычных связей — “вывихнутого сустава века”, мира, распадающегося на части в канун второго пришествия — йейтсевского Things fall apart. Такой абсурд — это диагноз, это метафора, показывающая, что происходит “на самом деле”. То в поэзии Чернышёва абсурд другой, он — парадоксальный выход, это не конец, а, наоборот, процесс; это не итог, а отправная точка. Связей нет, но распад есть. Образы-воспоминания, замершие в сознании героя, объединяет лишь то, что были пойманы одним человеком. Этот абсурд даёт надежду и определённую свободу.
Это ощущение в поэзии Чернышёва исследовано не до конца — да и может ли оно быть понято и показано в принципе? На его присутствие указывает, в первую очередь, запоминающийся ритм — ироничный и бодрый. Стихи автора, правда, молодые: они, будто помнят мелодии считалок, скороговорок, дразнилок:
* * *
Лежу на паркете в квартире отца,
Листаю журнал в ожидании отца.
На кухне чирикают птицы отца,
Летают и гадят на стулья отца.
А что если все станет, как у отца?
Собака и тапочки, как у отца?
И голос, и волосы, как у отца?
Нет, Боже, избавь от такого конца.
18/5/22
Или из "от сирени душно…":
подойду к вольере,
лягу на бордюр:
откусите, звери,
голову мою…
7/6/22
Это поэзия, преодолевающая повтор как приём, “забуксованность стиха”. Повтор — точка, от которой отталкивается автор, это не объект медитативного размышления, он — преграда, до опредлённой степени, метафора происходящего. Это преодоление оцепенения — и есть центральный сюжет не стихов, но поэзии Чернышёва. Повтор и вызывает раздражение, и показывает его:
* * *
клюйте сволочи клюйте
клюйте мой круассан
клювами красными жуйте
мой дорогой круассан
хотите и кофе попейте
хотите плещитесь в нем
хоть с головою залезьте
в мой стакан с кофеем
и сигареты берите
курите пожалуйста на
и кофе еще отхлебните
и круассан укусите
миндальный мой круассан
12/7/22
Круассан именно миндальный — почему-то именно эта деталь, выхваченная сознанием и речью, становится запоминающейся: единичное, уникальное “противостоит” происходящему из раза в раз. За этим словом стоит живая эмоция.
Преодоление повтора наиболее ясно видно не в самом удачном и от того наиболее наглядном стихотворении “черновики. май-июль”:
1.
и раз не пишутся стихи,
скорей засесть за языки.
безделье — воротник тоски.
каштан в цвету, стучат виски...
22/8/22
Стихотворение начинается посреди предложения — посреди мысли, автор почти сразу приходит к парадоксальному ответу, как будто за этим стоит очевидная любому оппозиция. Далее афоризм, он умный: “безделье — воротник тоски”, попытка объяснения через метафору. И текст продолжает скользить, его пускают “туда”, за границу, а нас, читателей, оставляют здесь. Монтажная склейка.
2.
обрушь на города
зеленый ворох шороха, как бог,
подай к столу сирень и облаков творог,
учись у птиц — перелети проспект,
забудь в трамвае свой велосипед.
Далее мы сталкиваемся с чем-то уже знакомым по более ранним текстам, читателю предъявляют стенограмму мечтаний — вспышки фантазии, где картинки-образы (“творог облаков”) с хитросплетениями звуков (“ворох шороха” — иной причины этим словам стоять рядом нет, да она и не нужна). Перед нами коллекция раскопанных “секретиков”, важная для героя, но едва ли для кого-то ещё: нам напевают мотив, пересказывают тик-ток — дают справку, что что-то было, но не показывают. Читатель оказывается по эту сторону телеграфного языка. Такая невозможность — закон коммуникации — главная проблема мира, который существует вокруг стихов Чернышёва. Так, парадокс становится закономерным и самым логичным ходом мысли — попыткой выхода за предел, которая однако проваливается.
Особенно больно это чувствуется в самых злых стихах — политических. Например, “холодный город плитой могильной…”, посвящённых смерти Навального. Это стихи отчаяния и мужества. Триста человек, собравшиеся у посольства России, едва ли могут что-то сделать — и знают это. Их стойкость в том, чтобы просто быть, заявить своим телом: “Мы есть, и мы…”, — а то, что лежит за многоточием не так важно (если оно есть в принципе, в отличие от людей). Онтологическое присутствие становится аргументом, фактом. Само число — триста — и есть ответ, оно заколдованное, неслучайное: триста, как спартанцев или арагвинцев. Невозможность что-либо изменить делается неважной, по крайней мере, в пространстве стихотворения — и этом победа автора.
Выход из этого оцепенения мы находим в третьей строфе “черновиков”: это оказывается не “что”, а “как”:
3.
ивами да липами
вашими молитвами
тропами звериными
ртутью, витаминами
дружескими спинами
пулями да минами
Оцепенения, пусть даже и мечты, воображения противопоставлены движению, даже затёртые поговорки, вроде “вашими молитвами”, или жёсткие оппозиции (“дружеские спины” VS “пули да мины”) не останавливают его, оно течёт поверх. Вокруг победы текучего, движущегося над оцепеневшим и застывшим строятся лучшие стихи Чернышёва:
бродили дни, упавшие в траву,
текли недели, как по часослову.
пилоты в горьком небе октября
хрустели шоколадом сухпайковым
29/10/22
Или:
между нами кордоны и снег:
ты не путай туризм и побег.
как ты там, голубая Мальвина?
дремлет в сумерках древний Казбек.
прячу паспорт на дно рюкзака.
я без родины, без языка,
и пытаюсь на скверном английском
у грузина купить табака.
18/5/22
В этом стихотворении схвачено ощущение свободы, которая не была дана сверху, а куплена ценой лишений и, главное, внутренним сопротивлением, переросшим в поступок. Иногда герой выбирает “ужасный конец” вместо “ужаса без конца”: “откусите, звери, / голову мою…” или совсем что-то неожиданное (но разительно верное):
беспилотник, целуй меня в губы!
преврати меня в звездную пыль.
мне приснится твой голос полярный
и доверчивый пес-поводырь.
На мой взгляд, это четверостишие — самое сильное из всего написанного: и по ощущению свободы, и по силе жеста, по разнообразию образов их неожиданном соседстве, и по интонационному напору — по силе. За границей оказывается мечта, воображаемое, которая неотличимы всё же от смерти, неназванной по имени. Эта смерть неслучайна, стихи Чернышёва едва ли можно назвать суицидальными, для него смерть — это, скорее, “поступок поступков” — момент предельного контроля человеком над жизнью, его высшей степени свободы вопреки обстоятельствам. Конечно, герою Чернышёва ближе не Кириллов из “Бесов”, а Артур Бёртон, командующий собственным расстрелом, из “Овода”.
Подозрительно “вечный сон” мы встречаем в другом стихотворении:
/
Через забор — и ты один в цветах.
Не утони, не заблудись, не спи в цветах.
Роса. Алмазы в волосах.
Кто гордостью горит во тьме?
Кто говорит с тобой во сне?
Бутон и ветка. Птица. Шум шоссе.
Пыль на окне. Стеклянный вечер. Май.
5/6/23
Здесь за “поступком” лежит потаённое, заветное — то, о чём нельзя попросить, а можно только схватить. Быть — значит сопротивляться. Так, на смену ритмизированному абсурду постепенно приходят более спокойные стихи, больше подходящие на речь. Несмотря на более частые пропуски ударений, размер, очевидно, сохраняется. Так же и дружба — воспоминание о той, “московской” жизни — явление социальное — постепенно “вымывается” из стихов, ей на смену приходит любовь двух, которая тоже несёт отпечаток “поступка” и выбора быть преданн_ой.
В своих стихах Чернышёв использует абсурд как попытку нащупать реальные, а не мнимые законы этого мира. Автор то и дело пытается угадать их, заговорить бытие, сочинить что-то вроде детской загадки или приметы. Это суеверные стихи:
* * *
река течет и сосны огибает
кто падает в нее тот погибает
21/11/23
Или:
* * *
с крыши падает лёд.
мир блестит, как бензин.
завтра кто-то умрёт
по пути в магазин.
это буду не я,
это будешь не ты.
здесь трамваи гремят,
проезжая мосты.
здесь мосты - типа скобы
на ране реки.
мне так хочется, чтобы
сдохли все мудаки,
чтобы в чистом трамвае
я ехал один.
с крыши падает лед.
я иду в магазин.
30/5/23
Если очевидно А, то, значит, очевидно и В — истину можно познать только так — догадкой, чем-то вроде бартовского punctum’а, и как будто единственный способ понять истинно что-то или ложно — посмотреть: ложиться ли это в строчку, рифмуются ли они между собой? Его стихи — это не “поэзия утрат”, как пишет Л. Нукневич (“Общая тетрадь” №1 (92) 2024), а, наоборот, путь к обретению, к свободе. Однако, согласно какой-то высшей логике установленной самим письмом автора в стихах, что именно обретается вместе со свободой не до конца ясно.
Последние стихи Чернышова иные: менее рыхлые, более короткие, более афористичные, более голые и даже колючие. Из них уже выпарилась “московская” сентиментальность, она осталась где-то там, в приснившейся родине, переставшей быть темой, она — “запах окурков в подъезде”, “сало за форточкой”, предназначенное птицам, “рукав материнской шубы”. Автор уже покидает столько обжитую лиминальность, шаткую неопредлённость первых лет эмиграции. Позади остаётся и “старый Казбек”, варшавский бродячий цирк, из которого (какое совпадение) тоже сбежало два тигра, убийство Навального. Что впереди не очень понятно — но оно, вроде бы, устойчивее. Сменилось время, как будто, необходимо подвести некий итог в виде сборника — акта рефлексии и “высказывания”. Причём необходим именно сборник, который бы подвёл черту под этим этапом. Дальше другое.