Его полное имя было Александр Наумович Асаркан, но так его называли только в госучреждениях. Для друзей любого возраста он всегда был Сашей, а для остальных — Асаркан, причём не все знали, имя это, фамилия или подпольная кличка.
В Москве он жил в районе Хитрова рынка и его образ жизни отчасти напоминал образ жизни персонажей пьесы “На дне”. Спал за фанерной перегородкой в коммунальной квартире. У него никогда не было пальто. У него почти никогда не было денег. Каждый день недели был расписан и обычно заканчивался визитом в один из московских салонов, где он знал, что его непременно накормят. Всё, что от него осталось — это несколько блистательных театральных рецензий и несколько тысяч самодельных открыток, которые исходили от него непрерывным потоком сначала из Москвы, потом из Рима, а потом из Чикаго.
Как говорил Остап Бендер, учения не создал, учеников разбазарил, мёртвого Паниковского не воскресил. Но после его смерти вдруг выяснилось, что в разных странах есть люди, которые считают встречу с Асарканом одним из главных событий своей жизни. В чём же секрет его влияния?
Он родился в 1930 году. Это было время, когда в России строилась новая цивилизация — цивилизация архаического типа. Город всегда возникал вокруг захоронения вождя, как места ритуальных встреч племени. Примерно это и происходило на Красной площади. Вместо временных деревянных построек был сооружен третий, каменный мавзолей, вокруг которого дважды в год проходили ритуальные шествия. Возникновение города часто связано с порабощением сельскохозяйственного населения. Именно этот процесс происходил в России под названием “коллективизация”. В 1930-м году постановлением Совнаркома были созданы исправительно-трудовые лагеря, под управлением организации, которая называлась ГУЛАГ.
Он родился 26 марта. Примерно в эти же дни Михаил Булгаков написал письмо Сталину с просьбой отпустить его за границу. В апреле покончил собой Маяковский. В этом же году были засекречены географические карты. В опубликованные карты специально вносились искажения, чтобы запутать шпионов. Может быть именно из-за этой секретности у Асаркана возник интерес к истории и географии городов, в которых ему приходилось жить.

Сашин отец был членом еврейской социалистической организации БУНД, он умер в тюрьме. Мать умерла своей смертью в 1943 году, сразу после возвращения из эвакуации. В 1945-м Саша совершил свой первый и единственный политический поступок — написал и расклеил на столбах листовки против войны с Японией. Там были такие слова: “Американцы, которые видели кровь, только когда брились, пусть они и воюют, нам незачем проливать свою кровь”. Его нашли, листовки были написаны даже не левой рукой. Дело было заведено сразу, но посадили его только в 1950-м. В 1951-м, после Бутырок и медицинской экспертизы, он оказался в ЛТПБ — Ленинградской тюремно-психиатрической больнице. Диагноз — “эмоциональная тупость”.
Больница была создана в 1951 году. Это было мрачное здание на Арсенальной набережной в Ленинграде. Туда и был отправлен Саша Асаркан, которому к тому времени исполнился 21 год. Там он столкнулся с кругом людей совершенно непохожих на знакомых ему советских людей. Его учителями и впоследствии друзьями стали поэт Юрий Айхенвальд, внук знаменитого критика Юлия Айхенвальда, высланного из СССР в 1922 году на так называемом “философском пароходе” вместе с Бердяевым, Лосским и другими. Там же он подружился с автором герметически-непроницаемой прозы Павлом Улитиным и поэтом и математиком Александром Есениным-Вольпиным. Там он довольно быстро стал центром общения, главным образом за счёт того, что организовал самодеятельность. Написал пьесу в стиле Шварца. Спектакль был поставлен, правда, цензуру не прошёл, и второй раз сыграть не дали. Асаркан в каком-то смысле опередил Петера Вайса с его “Марат-Садом”, там тоже постановка в сумасшедшем доме.
После освобождения вернулся в коммунальную квартиру к своим дальним родственникам и поселился у них за фанерной перегородкой. Большую часть времени проводил в кафе “Артистическое”. Оно было создано в 1903 году и названо “Артистическим” благодаря стоящему рядом МХАТ'у. В 1960-х там сидели актёры, театроведы, журналисты и художники — Игорь Кваша, Олег Табаков, Наталья Крымова, заходили Анатолий Эфрос и Олег Ефремов, художники Юло Соостер и Юрий Нолев-Соболев — все они всегда готовы были купить ему очередную порцию двойного эспрессо, а иногда и сосиски с горошком. Слушая его увлекательные монологи, кто-то из журналистов предложил ему написать рецензию на театральный спектакль. Он написал, рецензия была принята с восторгом и тут же напечатана в журнале “Театр”. Так он стал театральным рецензентом. У его уникального стиля немедленно нашлись подражатели.
Незадолго до смерти, обсуждая с чикагскими друзьями свой некролог, сказал, что хочет быть назван “литератором”. Он и был литератором в том смысле, что все отношения с людьми становились текстами — многостраничными письмами, открытками, реже статьями.
Его отношения с людьми были полноценными до тех пор, пока они оставались на бумаге, он не очень знал, что делать с живыми людьми. Моя юношеская “влюбленность” в Асаркана тоже была чисто литературной. С одной стороны, он раскрыл для меня целый пласт неизвестной мне литературы, от которой родители меня оберегали, считая что мне рано её читать, но, самое главное, он показал мне, что все сложные и противоречивые чувства и мысли, переполнявшие и 15-летнего подростка, и 30-летнего неудавшегося писателя можно излагать на бумаге. Мои отношения с Асарканом — это десятки машинописных страниц, напечатанных без полей, с одним интервалом, которыми мы с ним обменивались в течение нескольких лет. Такой бесконечный комментарий к исповедям друг друга.
Наши отношения с ним были своеобразным симбиозом. Манипулируя подростками, он в каком-то смысле переселялся в нас, в благополучных детей из приличных семей, и таким образом переживал отнятое у него счастливое детство. Нам же казалось, что переселяясь на одну ночь из чистых постелей на грязный прокуренный диван, мы осуществляли акт бунтарства и неповиновения. Жить, как Асаркан каждый день, нам никогда бы не хватило смелости.
Главное, что он сделал для нас, он показал, как можно быть свободным в условиях тотальной несвободы. Сознательно или бессознательно он следовал принципу Лао-цзы: кто не борется, того невозможно победить.
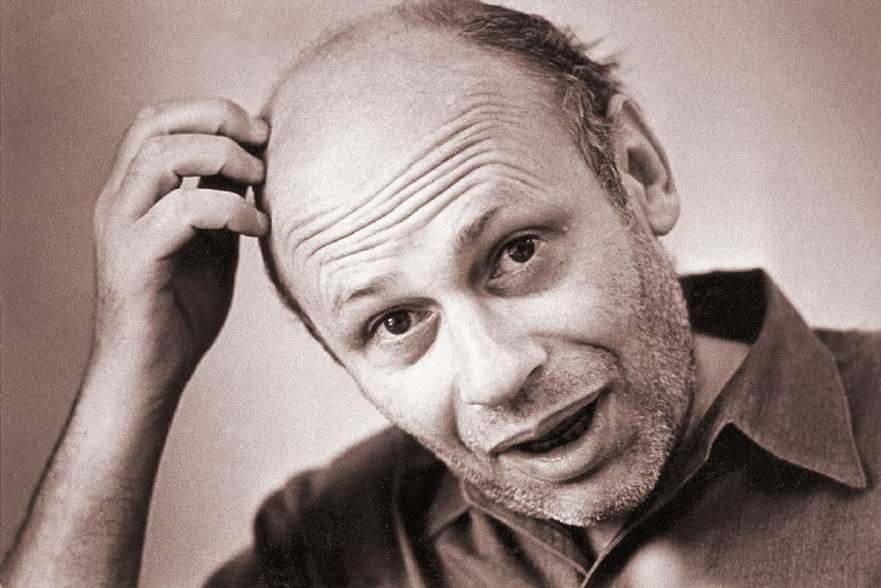
Люди, которые не знали Асаркана, часто спрашивали меня: что было бы с ним, если бы он жил в России сегодня? Был бы он таким же? Я думаю, что он одновременно был порождением своего времени и его ярким воплощением. Культу вокруг него способствовала модная идея 1950-60-х о связи гениальности с безумием. Его анти-буржуазность совпала с потребностью в анти-потребительском поведении, которая росла вместе с растущим советским потребительством. На более официальном уровне это проявилось, скажем, в пьесе Розова 1957 года “В поисках радости”, где юный герой рубит импортную мебель саблей отца-большевика. Для Асаркана возвращение к “комиссарам в пыльных шлемах” было невозможно, несмотря на его любовь к песням Окуджавы.
Я думаю, что Саша эмигрировал, потому что понял, что его эпоха прошла, и он постепенно становился маргинальной фигурой.
Московские друзья, которые помогли ему собрать нужные документы и уехать из СССР, считали, что попав на Запад, Асаркан попадет в свою стихию и снова станет культовой фигурой. Его ситуация оказалась трагической. Живя в Чикаго, он мало интересовался тем, что происходило в постсоветской России. Он продолжал посылать открытки московским друзьям, главным образом с вырезками из американских газет и журналов. Ему были неинтересны их новости, а им — его новости из Чикаго. Сам он оказался интересен в Америке только узкому кругу русскоязычных иммигрантов и ещё более узкому кругу американских славистов.

