COVID-19 действительно стал Событием, спровоцировавшим как динамичную интеллектуальную полемику, которая продолжается уже не один месяц, так и безжалостную критику этой полемики. Так или иначе, нарушение повседневного, судя по всему, неизбежно подталкивает нас к тому, чтобы это нарушение осмыслить, охарактеризовать и присвоить ему ту или иную категорию. В последнее время часто можно встретить комментарии, предвосхищающие появление новых исследовательских работ, социального и культурного толка, которые будут переосмыслять и переопределять границы человеческого, наблюдать новые практики и смыслы, обусловленные новой “COVID-реальностью”.
Вполне вероятно, что такого рода высказывания выступают подобием мантры, надежды на то, что научная, рациональная оптика в конце концов сможет объяснить нам психическое влияние вируса на нас самих — то, чему COVID-19, относящийся к области иррационального, всяческим образом сопротивляется. Однако, в большей степени, вирус и все сопутствующие ему социальные явления подталкивают нас к тому, чтобы производить из себя или впитывать различные эмоции и аффекты. Границы человеческого можно не только осмыслять с помощью интеллектуального инструментария, но и чувствовать, ощущать и пере-ощущать. Я совершенно не хочу отделять осмысление от чувствования, что, в принципе, свойственно для “западного” образа мышления, а скорее наоборот — увидеть аффективное в рациональном. Иными словами, высветить аффект в качестве потенциального исследовательского метода.
В основании современной аффективной методологии находится понятие аффекта, которое было сформулировано нидерландским философом Бенедиктом Спинозой ещё в XVII веке. В то время, как его современники провозглашали примат разума и рационалистическое видение окружающего мира, Спиноза, наоборот, обращается к сфере телесного, с которой неразрывным образом связан аффект как состояние тела: “[…] того, к чему способно тело, до сих пор никто ещё не определил”. Оказывается, что разум не в состоянии контролировать всё на свете, что есть, например, люди, подверженные сомнамбулизму (или, как писали в XVII веке, лунатики), действия которых во время сна явно не спровоцированы разумом. Разума, в конечном счёте, нет и у животных, но Спиноза резонно подмечает, что они могут быть более проницательными, чем люди, которые наделены рациональным мышлением, наблюдают ход небесных тел и рассчитывают логарифмы.
На эту линию мысли во второй половине XX века обращает внимание французский философ Жиль Делёз и высвечивает весьма любопытный момент: не определяя, что такое тело, будто бы это само собой разумеющееся понятие, Спиноза пишет именно о его возможностях — то есть, в центре внимания находится не статичная сущность, над которой очень удобно совершить интеллектуальные абстрактные операции, а внутренняя динамика этой самой сущности. Делёз тем самым открывает теоретическую рамку, которая допускает в том числе и не-человеческие аффекты, ведь, что представляет из себя эта сущность не так уж и важно, важна её способность аффектировать и быть аффектированной.
Эта самая способность во многом оказывается определяющей:
лягушка, живущая в пруду, отличается от красного подосиновика не потому, что она другого цвета, относится к другому царству и обладает другим представлением о прекрасном, — а потому, что лягушка и гриб проходят через разные аффекты.
Более того, заявил бы Делёз после лесной прогулки, не существует никакой лягушки и никакого подосиновика “самих по себе”, они всегда находятся в состоянии становления: становления-лягушкой и становления-подосиновиком. У человека в таких не-антропоцентрических рамках нет никаких особенных привилегий — он, точно так же, определяется своими собственными аффектами.
Канадский переводчик и комментатор Делёза Брайан Массуми в своей классической статье “Автономия аффекта” связывает аффект в первую очередь с интенсивностью и до-субъективностью. Интенсивность аффекта в этом случае можно расценивать как антипод статичного и неподвижного, как динамичное состояние; до-субъективный же аспект подчёркивает то, что аффект, будучи связанным с телом, никак не связан с субъектом, он возникает “до” субъективного, и проще говоря, никак не осмысляется. Это как раз очень созвучно с выражением “находиться в состоянии аффекта”, взятым из уголовного кодекса, которое подразумевает, что человек будто бы не очень понимает, что происходит, и не может осмыслять свои действия рациональным образом.
Собственно, именно вот эта теоретическая линия Спиноза — Делёз — Массуми вдохновила тех исследователей, которые сейчас занимаются аффективным и которые очень любят противопоставлять себя “классическому” социальному и культурному знанию. Оно, по их мнению, не занимается реальным миром, а создаёт его репрезентацию, модель, которая потом и изучается.
Эта репрезентация, безусловно, очень сильно сужает и упрощает окружающую нас действительность, пытаясь выявить в ней самые разные бинарные оппозиции: культура/природа, человек/животное, мы/они, и так далее.
Исследовательница Сара Ахмед, например, укоряет и Массуми в том, что он сам создаёт бинарную оппозицию эмоция/аффект: эмоция, мол, определяется как то, что мы можем так или иначе осмыслить и обозначить, а аффект, — получается, что нет, потому что он не улавливается сознанием. Выходит так, что хоть и человек, и лягушка, живущая в пруду, испытывают те или иные аффекты, эмоции остаются человеческой прерогативой, так у лягушки, судя по всему, сознания нет. Поэтому аффективная методология как раз не различает аффект и эмоцию, и та же Сара Ахмед часто использует эти понятия как синонимы.
Важнейшим методологическим основанием является взаимодействие, встреча: например, проходящий мимо маленького пруда грибник неожиданно сталкивается с лягушкой, которая вскарабкалась на берег. Грибник удивлённо смотрит на лягушку, а лягушка — на грибника, и вот через пару мгновений оба участника взаимодействия идут дальше по своим делам, аффектированные этой встречей. Хотя они совершенно могут не отдавать себе в этом отчёт. Или, наоборот, отдавать: грибник возвращается домой с корзиной, полной подосиновиков, и начинает записывать свои впечатления от прогулки по лесу, от запаха тины и, в том числе, от изящных лягушачьих оттенков. И исследователь сразу же скажет — вот, это аффективно-субъективный способ познания мира. Причём, это не какой-нибудь абстрактный аффект, а очень конкретный, который связан с телом грибника и даже с телом лягушки. В этом и заключается один из ключевых доводов сторонников эмпирического изучения аффекта — его легче проследить и изучить в очень специфическом телесном контексте.
Аффект в контексте эмпирических исследований — очень важное понятие, так как он делает теоретическую реальность материальной, телесной и ощущаемой.
Однако, если мы всё-таки можем предположить, что аффективная встреча грибника и лягушки более или менее случайна, то как же быть с намеренными встречами, главная цель для человека в случае которых заключается в изучении. Да, грибник и лягушка непроизвольно познают друг друга аффективным образом, но, что делать с энтомологом, блуждающим по лесу в поисках нового экспоната для своей коллекции — его “умышленный” интерес, возвращающий научную иерархию исследователь/объект изучения, вроде бы кажется очевидным.
Ярким символом такой встречи в рамках западной (в культурном смысле) рациональной науки является лаборатория; именно в ней “реконструируются” условия реальной или потенциальной ситуации (то есть, создаётся репрезентация), в которых и проводится эксперимент, призванный подтвердить или опровергнуть тот или иной научный постулат. Учёные, оторванные от реальности и работающие в закрытой лаборатории, которые выносят из неё, подобно жрецам и шаманам, сакральное знание об этой самой универсальной реальности, — это известнейший образ французского социолога Бруно Латура, подрывающий “западное” рациональное знание о мире. К этой латуровской риторике исследователи социального и, в том числе, аффективного обращаются и по сей день. Аффект как раз не требует репрезентации — он свободно перемешается между телам, среди прочего, между телами в лаборатории, “материализуя” условную, теоретическую ситуацию, которую воспроизводят учёные, изучающие, например, плодовых мушек (которых эти же самые учёные называют Drosophila Melanogaster). Научное латинское название будто бы отчуждает человека от настоящей, не вызывающей особенно приятных ощущений мухи, которая, тем не менее, и в лабораторных условиях остаётся мухой.
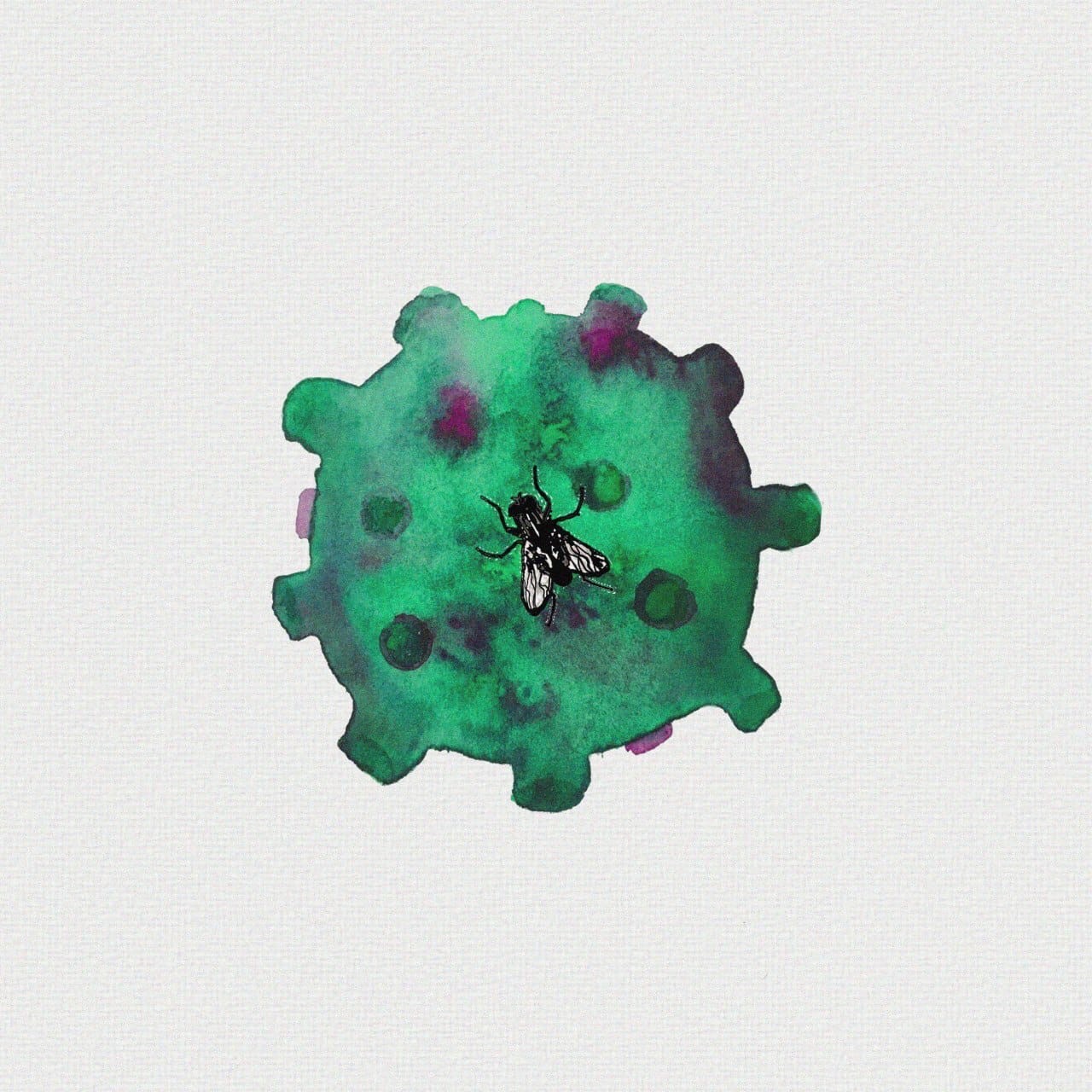
Обратимся к опыту финской исследовательницы Тары Мехраби, Ph.D. в области gender studies, которая проработала один год в шведской лаборатории, как раз изучая этих самых мух, и параллельно занимаясь включённым наблюдением. На протяжении всего периода лабораторной работы её не покидало чуть ли не телесное чувство невыносимого отвращения по отношению к “предмету” исследования. Продезинфицированный и чистый образ лаборатории, которая должна ассоциироваться с контролем, вмиг разрушается и становится материальным, телесным и даже интимным; даже в тот момент, когда её от обездвиженной мухи отделяет толстая линза микроскопа, острые лапки, как будто стрелы, пронзают сердце и проникают внутрь, вызывая желание абстрагироваться и мысленно переключиться на что-нибудь другое, более приятное и знакомое.
В первые дни работы она могла провести только минут двадцать у микроскопа, после чего у неё начинала кружиться голова, и появлялись рвотные позывы (Мехраби как раз связывает это с интенсивностью аффекта, которую подчёркивал ещё Массуми). Находясь с мухой чуть ли не в интимной близости, исследовательница стремится забыть, что работает с насекомым, и объективировать её: сконцентрироваться на разных частях её тела, на её цвете, на её отдельных волосках, на её фасеточных глазах.
Однако, аффект отвращения и отторжения неумолимо снова и снова собирает муху в единое тело.
Белоснежный лабораторный халат, будто бы призванный стать второй "кожей", защитой, отделяющий тело Тары Мехраби от тела плодовой мушки, совершенно не справляется со своей непосредственной задачей. Сложившаяся интимная ситуация подталкивает её в конечном счёте к тому, чтобы научиться чувствовать муху: привыкнуть к особенностям строения хрупкого тела мухи, к её движениям и потребностям.
Рассматривая отвращение в качестве аффективного методологического инструмента, который “оживляет” усыплённых мух, лежащих на предметном столике микроскопа, Тара Мехраби приходит к очень важному выводу: Drosophila Melanogaster, несмотря на стремление человека отстраниться и отгородиться от неё, из пассивного “объекта” исследования превращается в активного участника процесса производства аффективного знания. И это подводит к определенной этической дилемме. Аффект отвращения, ненависти, который Тара Мехраби испытывала к мухам всю свою жизнь, вызывает желание умертвить живое существо — желание, которое не встречает никакого этического сопротивления в “обычных”, бытовых условиях. А в такой интимной обстановке, которая вырвана из привычного контекста для человека любовной эмпатии и сексуальности, смерть Другого начинает играть новыми этическими оттенками, будучи, тем не менее, очень распространенным лабораторным явлением, с которым учёный встречается регулярно.
Интимность между мухой и человеком так или иначе подразумевает смерть.
Однако, судя по всему, это не смерть в привычном для человека понимании: она превращается из “придуманного” антипода жизни в её продолжение. Живые бактерии, которые незамедлительно появляются в свежих трупах мух, погибших в ходе эксперимента, вызывают у человека бессознательный страх и липкое желание как можно скорее утилизировать останки.
Таким образом, аффективные методологии парадоксальным образом приводят исследователя к этическим вопросам о жизни и смерти, о праве и бесправии, об угнетении и эмансипации. Именно в рамках аффекта высвечиваются механизмы, посредством которых человек «выталкивает» из своей реальности тех или иных живых существ, таких, как, пауки, тараканы, клещи, превращая их в своего рода изгоев. Собственно, к такому аффективному восприятию, на мой взгляд, и следует обращаться в тех случаях, когда эти изгои грозят вернуться и разрушить нашу удобную реальность — будь это случайная плодовая муха или же неизвестный науке вирус.

