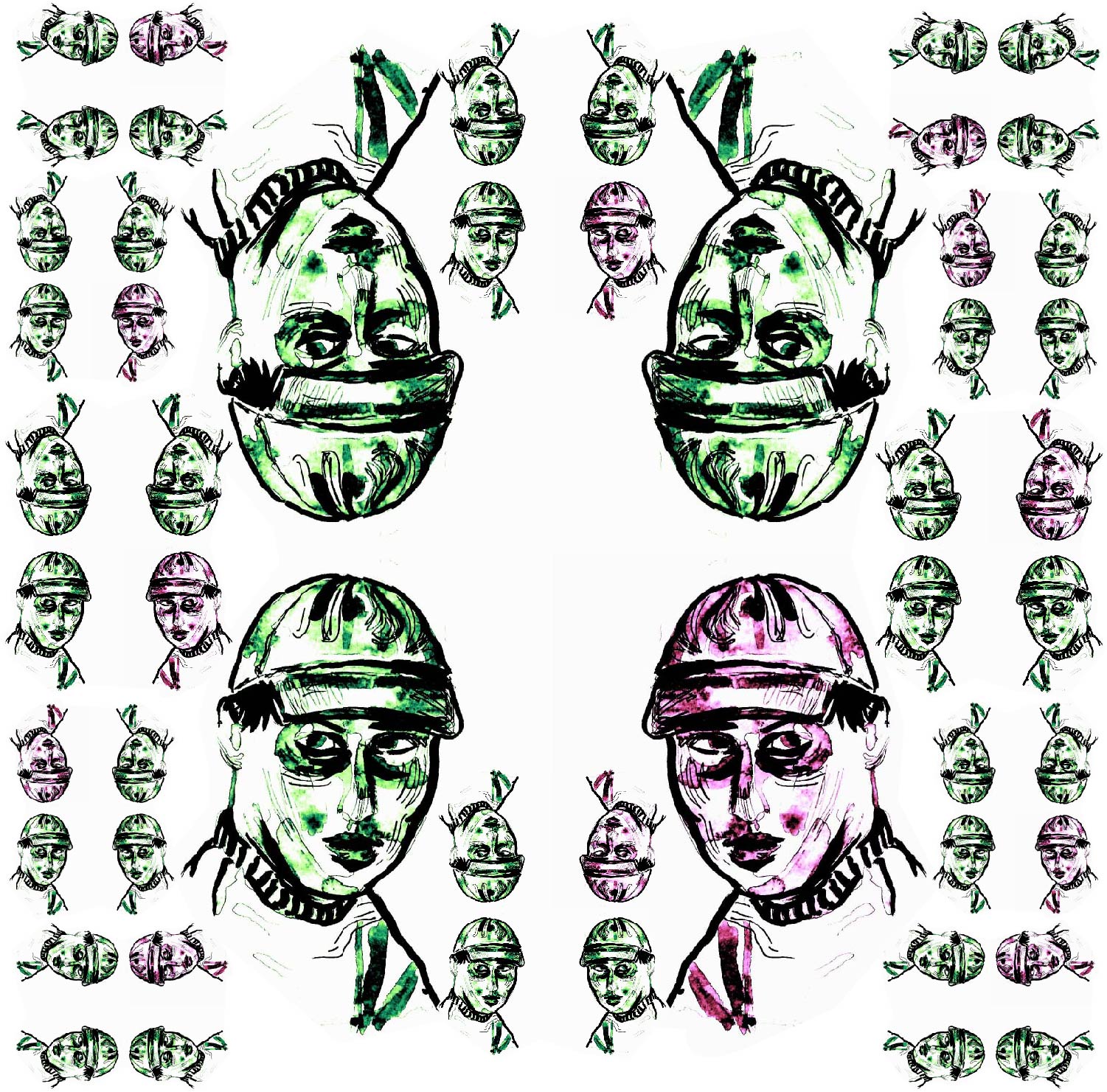Борис, здравствуйте! Я у вас уже брал интервью для “Демагога” около трёх лет назад, когда “Демагога” ещё не было даже. Много всего изменилось с тех пор. Отсюда и первый вопрос: как вы поживаете?
Если честно, не хотелось бы рассказывать о том, как я поживаю. Так себе.
Вы сейчас остаётесь в Москве?
Ну, да, да. Куда-то ехать не вижу смысла особо.
А не страшно вам оставаться?
Не страшно. Со мной пусть делают что хотят, мне терять уже нечего.
Я вас тогда поспрашиваю про прошлое, если можно.
Может быть, про литературу сразу, про литературную критику.
Вот я как раз хотел спросить. Я не знаю, как вы попали в литературную критику. Вы ведь учились на филфаке МГУ. Почему вы не продолжили заниматься наукой, например?
Я с отрочества интересовался новинками, и отечественными, и зарубежными, заставлял маму выписывать кучу толстых журналов. И мой диплом в МГУ был на злободневном материале: поэзия метаметафористов и проза тридцатилетних. Склад характера, наверное. Вот и поехало: “Литературка”, “Независимая газета”, “Сегодня”.
Переводом вы уже позже стали заниматься?
Ну, что значит заниматься. Сразу после университета мне пришлось по выходным сидеть с моим дедушкой, который находился в таком состоянии, что даже спать было нельзя. Двое бессонных суток в неделю. И я стал там, у дедушки, переводить роман Фаулза, без расчёта на публикацию, просто это помогало психологически. А впоследствии у меня толком не было возможности заниматься переводами, пусть и было желание. Для перевода нужны покой и размеренность, а я работал в газетах, журналах, на интернет-сайтах ненормированный день, дедлайны, сплошная нервотрёпка. Так что к переводческому цеху я себя не отношу.
Давайте снова к критике. В девяностые она очень сильно меняется, как меняется и сама фигура критика, человека, который критикует. Она становится более значимой, чем была раньше и чем будет позже, к концу нулевых годов. А в какой-то момент почти одновременно появляетесь вы, Вячеслав Курицын, чуть раньше Андрей Немзер, чуть позже Лев Данилкин и т.д. Это целая плеяда критиков с новым взглядом на литературу, который разделяют не несколько столичных снобов, а действительно многие. У вас есть объяснение этому феномену? Почему в девяностые пробуждается такой интерес к литературе, критике и критикам?
Как вы знаете, в девяностые развернулся бум книгоиздания, на публику обрушился вал не знакомых ей имен и стилистик, и естественно, что возникла потребность в мало-мальской навигации. Но по-настоящему действенная связь между издателем, критиком и читателем замерцала в самом конце девяностых, когда появились небольшие издательства, которые выпускали штучный, качественный продукт, а издательства крупные озаботились приглашением экспертов со стороны (меня в частности), чтобы обустроить собственные нишевые линейки, скажем нежанровой прозы. Наступило время Данилкина, время реального влияния критики на издательские стратегии и на цифры продаж.
Однако этот постсоветский цивилизованный рынок существовал от силы лет семь. Его задушили в колыбели. Началась острая фаза борьбы гигантов за господство на полках магазинов. В России книготорговых площадей на единицу территории по сравнению с СССР или развитыми странами очень мало, и подконтрольное тебе пространство полок базовый ресурс.
А чтобы вытеснить соперника с полки, нужно наращивать количество названий. И конкуренты, в частности, принялись штабелями закупать права на все зарубежные произведения, какие подвернутся, в авральном порядке переводить их и тиражировать, вспомним хотя бы печально знаменитую серию “АСТ” “Мастера. Современная проза”, километры ее угнетающих взгляд корешков стык в стык. Столько переводов с иностранного никакой читатель не переварит, но читатель для этой продукции и не планировался, её единственной задачей было отжать место, а затраты покрывались за счёт руководств по кулинарии или кройке и шитью. Соответственно, экономили на приличных переводчиках, на редакторах, корректорах; тексты в основном представляли собой бессвязную мешанину букв, я почти не утрирую. А речь о произведениях выдающихся стилистов вроде Апдайка. По сути, с импортной литературой происходило то же, что с сырами и яблоками в период контрсанкций: её перемалывали бульдозером. Хорошие переводы ещё выходили, да и сейчас выходят, но из-за их малочисленности они не делали и не делают погоды, ухали и ухают в смазь. А небольшие профессиональные издательства за редким исключением вытеснялись с рынка либо поглощались мейджорами.
В последние годы я стал замечать, что молодые критики, кино- и литературные, пишут в очень странной, разболтанной манере, у них напрочь отшиблен синтаксический и стилистический слух. И вдруг понял: подростками они, подобно мне, интересовались новинками мировой словесности, но их отрочество пришлось как раз на вторую половину нулевых, и вот эта какофония, этот говнояз зафиксировался у них в роли нормы, чуть не эталона. (Кстати, тогда и качество дублирования фильмов рухнуло под тот же плинтус.) В общем, Новиков и Хелемский, по-моему, совершили настоящее гуманитарное преступление, из ряда наитягчайших, с последствиями минимум на полвека. Пускай сейчас “Эксмо” и “АСТ” слились, уже не бодаются, их редакционная политика прежняя, да и с какой бы стати её модифицировать, стеллажи, особенно в провинции, забиты сугубо их продуктом, у покупателя по-любому практически нет выбора.
То есть образовалась монополия из этих двух крупных издательств. Но она же и была? Только в советское время была монополия государства, которая сменилась теперь монополией “АСТ”–“Эксмо”.
Нет, советские времена по сравнению с нашими апофеоз цветущей сложности: десятки, сотни издательств, центральных, региональных, каждое с более-менее своим лицом. Кроме того, в СССР наличествовал некий перфекционизм, воля к диалогу на равных с мировыми культурами. У нас же борьба книжников за торговые площади хронологически совпала с спичем Путина в Мюнхене, с поворотом страны к изоляции от внешнего контекста. Не хочу сказать, что издатели и кинопрокатчики сознательно взяли под козырёк. Просто вода течёт сверху вниз по рельефу, а рельеф России трансформировался. Вдобавок свобода от авторитетной системы ценностей позволяет, не напрягаясь, выстроить удобную и приятную тебе иерархию в рамках родимой песочницы. Отсюда казус Прилепина и иже с ним.
Нынче пинать Прилепина комильфо. Но я помню жуткое впечатление от дебютной повести “Патологии”, рукопись которой прочёл в 2002 году. И её, и всё его последующее творчество можно охарактеризовать фразой из “Мастера и Маргариты” “Абрикосовая дала обильную жёлтую пену, и в воздухе запахло парикмахерской”. Это одеколон для охранников в супермаркетах, эдаких смурных мужиков с силовым бекграундом. У нас десять, кажется, миллионов охранников, чудо-аудитория. Но где внешний контекст полностью дискредитирован, где Апдайк переключён в режим абракадабры, там Прилепин лауреат “Большой книги”, корифей.
Уничтожено, по сути дела, всё живое. Задолго до 24 февраля. Пятнадцать лет ковровых бомбардировок. Остались руины и пепелище.
И характерно, что критики, появившиеся в девяностых и первой половине нулевых, в их второй половине начинают уходить из критики.
Если издателю не нужен читатель, критик ни тому, ни другому не нужен тем паче. О тех, кто задержался в профессии, я невысокого мнения. Ни один из них не кричал в голос о том, что происходит. Они продолжали сочинять рутинные рецензии, поддерживали иллюзию благополучия.
Когда говорят о вас, часто называют не ваши имя и фамилию, а словосочетание “Аделаида Метёлкина”. Это персонаж, который появился, если не ошибаюсь, в газете “Сегодня”, а потом перекочевал и в “Русский журнал”. Можете немного рассказать о том, откуда она возникла, кто это и почему она?
У моей знакомой было выражение “Петя Веников и Дуня Стебёлкина”, то бишь непритязательные люди, представители ширнармасс. Вот Деля Метёлкина их, что ли, дочка, но назвали они её в честь песни Гребенщикова, ибо и эстетства, гм, не чужды. В “Сегодня” Деля отвечала за литературную попсу. Раздел “Искусство” складывался наподобие газетного романа с продолжением, там действовали сквозные персонажи-обозреватели не только под настоящими именами, но и под псевдонимами-масками: у Андрея Семёновича Немзера Крок Адилов, у Курицына Глеб Жеглов и Володя Шарапов, не стану перечислять всех. Постоянные читатели вовлекались в приключения этих персонажей, в их крайне субъективные, искренние монологи и диалоги, в их барахтанье среди того непривычного, что на нас тогда обрушилось, в их попытки осознать, сориентироваться. И по законам эмпатии сами начинали ориентироваться и сознавать. Деля подчас вела себя как та ещё вредина, но я к ней прикипел, пристроил затем в “Коммерсантъ”, “Русский журнал”, на сайт Globalrus и по сей день испытываю теплые чувства. Пухом земля.
И последний вопрос, точнее, просьба: что бы вы посоветовали прочитать из того, что за последнее время вышло в России и в мире?
Очень важный, по-моему, автор Лю Цысинь, не только для фантастики, но и для литературы в целом: до предела нестандартная, революционная философия человека, космоса и места человека в космосе. Впрочем, не читайте его в отечественных версиях, которые являются переложениями английских переложений. Читайте по-английски, а лучше выучите китайский, пригодится.
Меня поразил роман Алексея Сальникова “Оккульттрегер”. Он написан даже слишком хорошо по меркам нашего унылого момента. А главные русские прозаики из живущих, на мой взгляд, вовсе не Сорокин с Пелевиным, но Михаил Шишкин и Александр Терехов. Оба давно не публиковали ничего нового. Что с одной стороны печально, с другой же объяснимо.