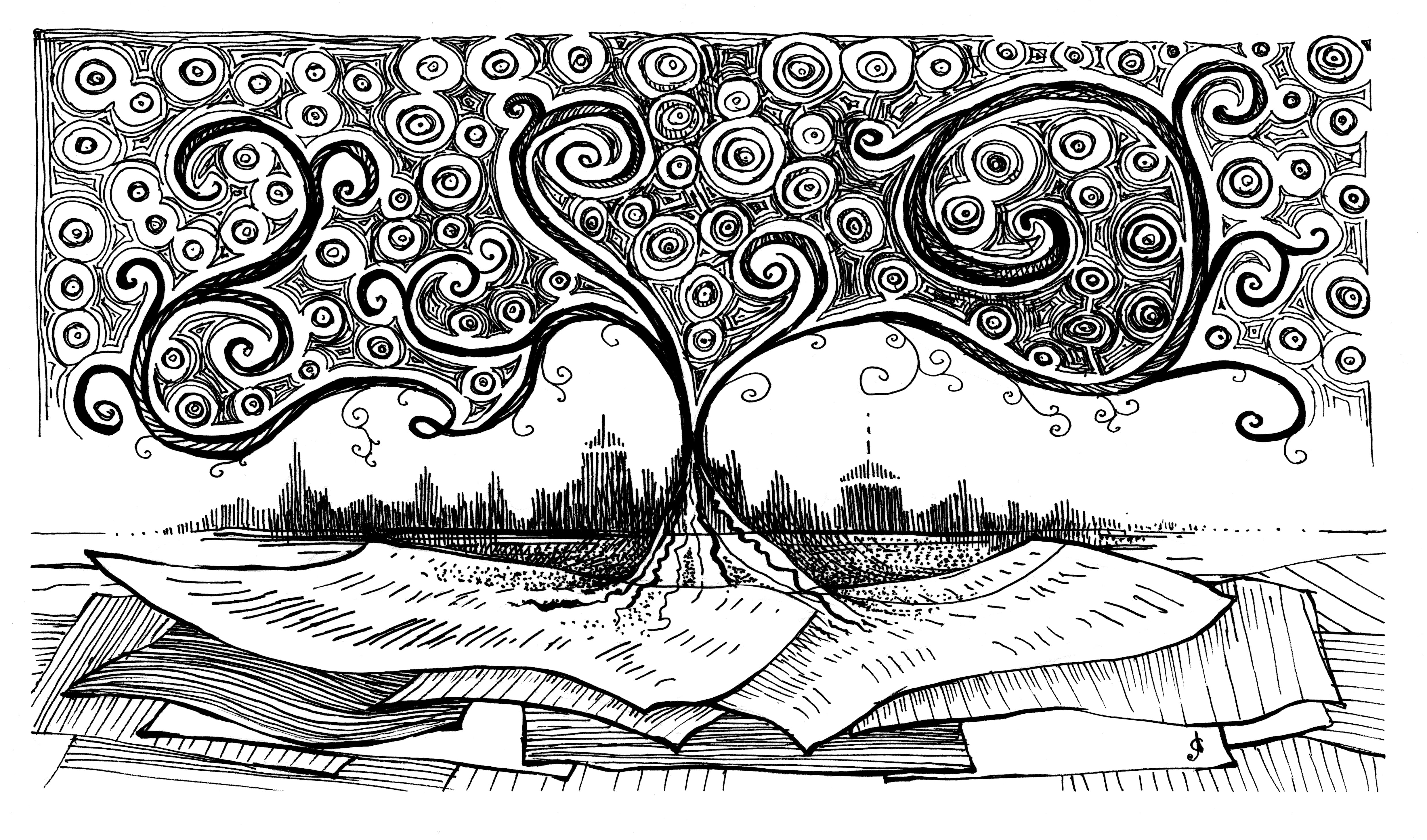Что такое "непоэтическая эпоха"?
“Стихов нет”, — так начинается знаменитая статья Некрасова “Русские второстепенные поэты” 1850 года. Второстепенными поэтами двадцатидевятилетний редактор-издатель “Современника”, как ни странно, объявляет Тютчева и Фета — поэтов, к тому времени уже получивших признание публики. И в конце статьи Некрасов, как бы извиняясь за столь категоричное заглавие, причисляет “талант г. Ф. Т–ва к русским первостепенным поэтическим талантам”. Во-первых, “лучшего” заглавия поэт попросту не нашёл. А во-вторых, второстепенные они потому, что большей величины, чем Пушкин, поэзия 1850-х годов не знала. Его нишу займёт в 1877 году сам Некрасов, когда на похоронах поэта “один из голосов крикнул, что Некрасов был выше Пушкина и Лермонтова”.
Эта эпоха получила название “непоэтической”. Хотя русская литература начинается с поэзии (вспомним Ломоносова, Державина, а затем и Жуковского, Батюшкова, Пушкина), к началу 1830-х годов она не только претерпевает существенные метаморфозы, но и теряет былой статус. Задолго до футуристов молодые Белинский, Полевой и Надеждин бросают с корабля современности Пушкина, диагностируя поэту скорое забвение. Белинский публикует рецензию, в которой говорит, что Пушкин исписался; статья стремительно разлетается по всей Москве.
Время же Пушкина давно истекло, как и время Баратынского, Батюшкова и многих других поэтов так называемой “школы гармонической точности”, ратовавших прежде всего за благозвучие стиха. “Песни его уже не те. А читатели те же и разве только сделались холоднее сердцем и равнодушнее к поэзии жизни”, — сожалел Пушкин тщетно пытаясь найти причины охлаждения публики к творчеству Баратынского. Одну из них Пушкин отыскал и обозначил как “усовершенствование и зрелость его произведений”. И ясно, что писал он не только о Баратынском, но и о своём положении в тогдашней литературной среде.
Однако было бы упрощением считать, что непонимание читателей и критики связано лишь с внутренним ростом поэта. Была и другая, быть может, куда более серьёзная причина: восстание декабристов положило конец эпохе, для которой Пушкин был “своим”. На горло пушкинской “песне” наступала эпоха чиновников, когда литература начинает осмысляться с точки зрения пользы и утилитарного значения.
Литература меняется: она становится демократичнее и теперь воспринимается как важнейший социальный медиатор. От неё ждут прежде всего обсуждения насущных проблем — социальной, бытовой, психологической жизни, которые остро ощущаются и обсуждаются в журналах. Разумеется, всё это легче обсуждать в прозе, нежели в поэзии. Временем уже вполне развитой коммерциализации литературы станут 1840-е годы. А для журналов — главного органа и средоточия литературной жизни той поры — именно проза окажется востребованной. И Пушкин, с присущей ему «всемирной отзывчивостью», это хорошо чувствует. Недаром в конце 1820-х годов он обращается к прозе и пишет “Арапа Петра Великого” (1828), “Повести Белкина” (1830), “Дубровского” (1833), “Пиковую даму” (1834) и “Капитанскую дочку” (1836). Тогда же Тютчев пишет одно из самых своих знаменитых стихотворений “Silentium!”, которое принято трактовать как свидетельство внутреннего кризиса поэзии. В 1835 году выходит стихотворение Баратынского “Последний поэт”. В 1839 — стихотворение Лермонтова “Не верь себе” — по сути, о том же, что и “Silentium!” Тютчева. А уже в 1840 году выходит и «Герой нашего времени».
Как эволюционирует литература?
Как видим, читательский и критический фокус смещается на прозу. Это важно зафиксировать, поскольку литература не работает по принципу “чем дальше, тем лучше” (согласно теории прогресса), то есть когда каждый писатель работает ради следующего: Ломоносов породил Державина, Державин — Пушкина, Пушкин — Лермонтова… Ведь если так, то получится, что поэтическое мастерство Демьяна Бедного превосходит мастерство Жуковского. Получится, мягко говоря, странно: совершенно проходные и неоригинальные сочинители стоят выше действительно глубоких поэтов.
Более убедительную модель литературной эволюции предложили филологи так называемой формальной школы, которые превратили гуманитарное знание в полноценную науку. В статье “Розанов” Виктор Шкловский писал, что “наследование при смене литературных школ идет не от отца к сыну, а от дяди к племяннику”. После Пушкина на авансцену, по Шкловскому, выходят не наследники его поэтической традиции, а наследники тех “неканонизированных” школ, которые при Пушкине существовали “глухо”, в “нижнем слое”, но именно оттуда приходят новые формы взамен “канонизованных”, становящихся всё менее “ощутимыми”. Схему Шкловского развил Юрий Тынянов — именно его модель литературной эволюции и по сей день остаётся определяющей. Подобно Шкловскому, Тынянов утверждал, что картина литературной эволюции вовсе не является картиной мирной, картиной толерантного существования — напротив, литературная эволюция подразумевает прежде всего борьбу. Или же не “борьба”, а “взрыв, планомерно проведённый”. Это значит, что если литература и подчиняется каким-либо законам, то развивается она не по прямой, но прерывисто, подвергаясь более или менее резким “мутациям” (в рабочих записях Тынянова встречается выражение “жанр как ген”, выдающее его знакомство с новейшими достижениями биологии). И если литература изменяется “скачками” и “смещениями”, то причина в том, что в поисках “нового” она развивается методом проб и ошибок.
Основные аспекты литературной борьбы и литературной эволюции рассматривались формалистами в плане взаимоотношения и взаимодействия видов и жанров литературы. Чтобы легче представить себе модель Тынянова, можно оперировать метафорой бильярдного стола, в центре которого находятся наиболее востребованные, пользующиеся популярностью жанры (канонические, старшие). А есть бильярдные шары, разложенные по краю стола (у Тынянова — периферия литературного пространства). Это жанры, которые не воспринимаются как важные и не воспринимаются как литературные (неканонические, младшие). Согласно Тынянову, те жанры, что находятся в центре, как бы “автоматизируются” и их выбивают те жанры, которые были на периферии. Теперь они занимают центральное положение. Это непрерывный процесс. Именно так и развивается литература. И история русской поэзии в середине XIX века очень хорошо иллюстрирует эту тыняновскую схему — со сложной борьбой между поэзией и прозой, с попытками поэзии сначала не потерять, а потом снова завоевать своё место.
Пушкинский стих начинает звучать как прекрасный, но мёртвый и выученный наизусть язык. Некрасов понимает, что в такое время, когда каждая бездарность может написать “гладенькое стихотворение”, он должен писать фельетоны и “бестолковые поэмы”, оскорбляя “изнеженный слух эпигонов”. Прежде Некрасова похожую мысль выскажет Белинский. После гибели Лермонтова в 1841 году вопрос о том, что происходит с русской поэзией, займёт центральное место. Белинский, ведущий критик эпохи, по сути создавший репутацию Лермонтова-поэта, не назовёт ни среди современников, ни среди более молодых поэтов никого, кто бы мог претендовать на тот статус первого русского парнасца, который имели Пушкин и Лермонтов.
Расцвет поэток
1840-е годы — расцвет женской поэзии. Именно в 1840-е, на волне профессионализации литературы, начинающейся с Пушкина (вспомним знаменитые стихи: “Не продается вдохновение, / Но можно рукопись продать”), женское письмо перестаёт выглядеть в русской литературе чем-то диковинным и экзотичным. Причём важно, что в поэзии женский голос обретает свою полноту раньше, чем в прозе и тем более драматургии и критике. Крупнейшие русские поэтки (тут мы вторим Белинскому, писавшему: “Тут изображена поэтка, выражаясь языком сочинительницы, которая пишет и читает вслух…”) середины XIX века — Каролина Павлова, Евдокия Ростопчина.
В послании Языкову Павлова благодарит адресата “за сладкозвучный дар поэта, за вспоминанье обо мне”, но уже в более поздних поэтических текстах она обретает свою идентичность и инкорпорирует, вписывает свой лирический дар в богатую традицию, диалог с которой уже невозможен, поскольку живых поэтов первой величины уже нет. Что касается Ростопчиной, то она, напротив, охотно ведёт непрерывный диалог с этой традицией — с Пушкиным, поддержавшем её дебют, с Лермонтовым, который посвятил ей один из своих поздних шедевров (“Я верю: под одной звездою / Мы с вами были рождены…”). С другой стороны, Ростопчина не сводится к сочинительству изящной любовной, салонной лирики (она была хозяйкой салона, в котором сходились главные авторы эпохи), какой её считали современники. Либерально-демократическая, а затем и советская критика обращала внимание на оборотную сторону творчества — на гражданские тексты Ростопчиной, такие как “Насильный брак”: “Он говорить мне запрещает / На языке моём родном, / Знаменоваться мне мешает / Моим наследственным гербом... <...> // Послал он в ссылку, в заточенье / Всех верных, лучших слуг моих…”.
Некрасов, как никто другой, понимал, что при том отношении к поэзии, которое сформировалось в эту пору, на его талант и его литературные штудии едва ли будет спрос. С другой стороны, как поэт и очень проницательный знаток поэзии, он начинает задумываться о том, как бы вернуть поэзию обратно в литературную систему, в литературное поле, из которого её “выбила” проза. Некрасов создаёт тот самый цикл критических статей о русских второстепенных поэтах. Цель его состоит не столько в том, чтобы констатировать вырождение поэзии, сколько в том, чтобы, напротив, напомнить: русская поэзия ещё жива, и в недавнюю эпоху тоже существовала.
Кроме того, важная особенность цикла “Русские второстепенные поэты” заключается в декларировании того, что именно поэзия является инструментом, обнажающим душу, и что поэзия находится в теснейшей связи с внутренней жизнью человека. Это согласуется, конечно, с распространенным в то время интересом к психологизму. Интерес к поэту как к личности неизменно растёт.
Всего за несколько лет русская поэзия на страницах журналов и отдельных сборников обретает свою плоть и кровь. На этом фоне быть первым русским поэтом — уже не “обыкновенным талантом”, уже не второстепенным — становится престижным. И именно такую функцию, по-видимому, берёт на себя Некрасов.
И в то время как Тургенев целым рядом своих творений довёл прозу до поэзии, Некрасов, Розенгейм, Алмазов и другие работали над тем, чтобы “опрозаить” стих. Некрасов сочетает прозу и поэзию в новое единство, образуя новую форму и тем самым давая стиху второе дыхание.
Наконец, не надо думать, что с этих пор поэзия вечно будет почивать на лаврах. 1880-е годы — эпоха “безвременья” в русской литературе. В 1900 выйдет статья Андреевского с характерным заглавием “Вырождение рифмы”, где критик напишет, что “чудные песни” Пушкина и Лермонтова “были почти последними”.
Уже вышли первые выпуски “Русских символистов” под редакцией Брюсова. Скоро появятся Блок, Белый. Скоро поэзия вновь вступит в свои права. Её ждёт бурный расцвет, какого она не видела со времён Пушкина.
Эпоха трансгуманизма и ChatGPT
В заключение перенесёмся в наши дни, в эпоху трансгуманизма, в “эпоху технической воспроизводимости”. Эта формулировка из культовой статьи Беньямина о том, что вследствие развития современной технической мысли произведения искусства начинают утрачивать свою душу, завораживающую особую ауру, которая некогда притягивала и погружала зрителя. Статья Беньямина не потеряла своей актуальности и к началу 2024 года, когда ушедший год прошёл под знаком торжества ChatGPT, способного написать (вернее — сгенерировать) что угодно, в том числе поэзию.
Нам как свидетелям современного процесса об этом говорить нелегко, как и говорить о любой другой поэзии, не только современной. Сейчас можно встретить риторику в духе: “В 60-70-е годы было достаточно талантов, и они собирали залы и стадионы. А кто сегодня пойдёт на наших посредственностей и бездарей?” Неискушённому читателю потребуется сделать некоторое усилие над собой, чтобы прочесть хотя бы одну подборку стихотворений Оксаны Васякиной. “Что это за стихи, где нет ни ритма, ни рифмы?”
Социологи Светлана Королёва и Алексей Левинсон в своей статье “Опыт литературного маркетинга (проект «Стихи — народу»)” исследовали востребованность современной поэзии у студентов и выяснили, что она минимальная. Они пишут, что современная поэзия — это “знание про всех, но знание не для всех, знание важное, но нежеланное”. Впечатление “невостребованности” возникает отчасти из-за невольного сравнения с успехом поэзии в советские времена, когда она во многом выполняла не литературную, а, скорее, социально-терапевтическую функцию. Современная поэзия работает с острыми переживаниями, с которыми отнюдь не каждый захочет иметь дело.
Современный мегаполис и без того давит на человека. Большинство горожан естественным образом стремится через культуру как бы анестезировать рутинные процессы, а не анализировать их. Для того, чтобы воспринять те переживания, о которых говорит поэзия, нужно ответить на вопрос: “А зачем вам это нужно?” Людей, которые готовы над этим вопросом думать, никогда не будет много. Не потому что они лучше других — а потому что здесь уже предполагается специальная психологическая подготовка. Стихи читают люди с особой психофизикой, перед которой социология бессильна. У них так устроено ухо, у них так посажен глаз, они так созерцают реальность. Можно сказать, что они на поэзию обречены. Но их всегда будет мало. Может быть, три тысячи. А поэтов — совсем мало, может быть, трое, как у Пастернака. Прежде Пастернака Маяковский напишет в «Юбилейном»:
Хорошо у нас
в Стране Советов.
Можно жить,
работать можно дружно.
Только вот
поэтов,
к сожаленью, нету —
впрочем, может,
это и не нужно.
Однако есть и оптимисты вроде Михаила Эпштейна. Он убеждён, что вопреки мнению о “бездушном техницизме и прагматизме XXI века” он обещает стать веком поэзии. Поэзия никуда (и никогда полностью) не исчезает из жизни человечества. Она возрождается в самых крупных масштабах на уровне “мегатрендов” цивилизации. Поэзия находит для себя новые формы бытия за пределами книжных переплетов, переставая быть “пленницей букв и рифм”. То есть она теряет свой удельный вес на “вербальном” уровне, но расширяет своё могущество в гораздо более крупных масштабах, на уровне технических и социальных преобразований. Эпштейн называет этот процесс “антропологической революцией, самой значительной со времён возникновения homo sapiens”. Человек, вобравший в себя могущество созданной им техники, становится почти сверхчеловеком — “всевидящее, всеслышащее, крылатое, почти ангелическое”. А современное искусство — это и есть техника, способная связать людей, открыть новые пути общению и творчеству. Поэзия, выходя из своей ранней, словесно-стиховой формы и подпитываясь энергией науки, техники, продолжает магически преображать мир.