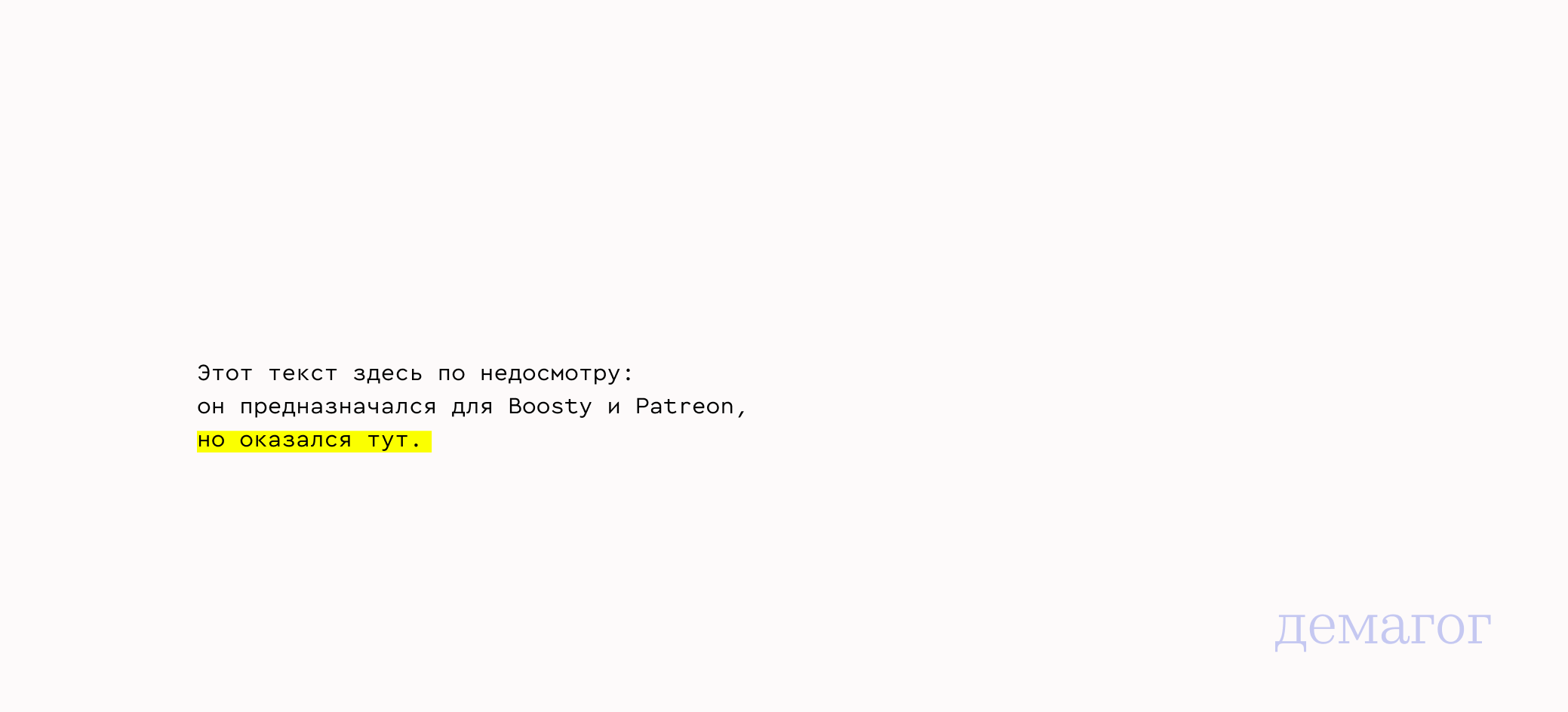Визуальная история Демагога довольно точно отражает его историю вообще, но остаётся отражением — а это всегда возможность взглянуть на происходящее немного со стороны. Итак, шёл 2022 год!
Демагог тогда уже существовал почти два года и выглядел очень своеобразно в самом лучшем смысле этого слова: Федя (здесь и далее главред, как бы он ни назывался тогда) заказывал иллюстрации к стихийно возникавшим материалам. Никакого расписания не было, никакой реальной ответственности — тоже, поэтому иллюстрации органично существовали как отдельный арт-проект, растущий и усложняющийся параллельно с самим журналом. Некоторые иллюстраторки возникали единожды, другие становились постоянными соавторками, за кем-то закреплялись авторы текстов, за другими — темы, приёмы и интонации. В тот момент количество постоянных иллюстраторок уже было приличным: больше десяти человек со своим взглядом, которые создавали каким-то образом сложную и более чем живую внешность журнала.

Иллюстрация к тексту клавы синей художницы Евы Лисовской
В эмиграции я стала искать новые способы существования и для этого — узнавать, как технически делать что-то визуальное руками (и многое другое, что в итоге не пригодилось), и мне ужасно хотелось пробовать всё и сразу. Демагог стал всепринимающим полем для экспериментов: я могла делать хоть каждый сет карточек новым шрифтом, и это воспринималось как само собой разумеющееся — почему нет? Эти шрифты же все для чего-то существуют, в конце концов, попробуем всего по чуть-чуть — и это было весело.
Я начала делать карточки на основе иллюстраций для того, чтобы прочертить дорожку к самим материалам, до которых, мне думалось, доходили совсем не все подписчики соцсетей. Они вообще-то хотели бы дойти, но не знали об этом, потому что пролистывали, отмечая красивую картинку — но только картинку, без привязки к тексту. Проблема состояла в том, что иллюстрация сама по себе не воспринималась как сигнал о тексте, а это крайне важно проговорить чётко и внятно: мы постим не просто что-то красивое, за изображением стоит большой разговор, в котором иллюстрация — собеседник, и ты, читатель, к этому разговору можешь присоединиться, если успеешь узнать о его существовании.

Иллюстрация к тексту Никиты Цицаги «Короткая заметка о бегстве»
Отчасти это сработало: карточки изредка, но репостились, о существовании Демагога стали узнавать новыми способами, что, предполагаю, привлекло какое-то количество новых людей. Но выглядело это чудовищно, честно говоря. К каждому тексту всё ещё делались очень самобытные иллюстрации, которые действительно непросто трансформировать в дизайн-базу, особенно в том случае, когда дизайнер ничего не знает о дизайне. Иногда это бывает сложно и теперь, тогда — почти невозможно.
Это продолжалось ещё пару лет. За этот внушительный период я делала попытки вывести какие-то формулы, например, ограничить количество шрифтов. Когда шрифты бесплатные и не очень качественные, найти что-то универсальное почти невозможно, поэтому их было около восьми–десяти, в лучшие моменты — около пяти, и я уже не скачивала новые каждый месяц. Пыталась выбрать какой-то набор приёмов и через них сформулировать, как может и как не может выглядеть журнал. Я даже поменяла логотип, без внятных аргументов, но снова по наитию — старый просто плохо выглядел в сочетании с иллюстрациями. Новый был проще и чуть современнее, чуть более мне понятным и расположенным к игре, в которую я играла сама с собой. И тут грянул грант.
Появление финансирования, обязательств по количеству материалов (но не по их содержанию — большая удача), необходимость делать много, регулярно и быстро — всё это, конечно, отняло прежнюю свободу. Но как у любых порядочных рамок, у такого ограничения есть однозначные плюсы: у дизайна теперь есть цель, и он должен её выполнять, иначе это просто не дизайн, а упражнения, а вечно упражняться бессмысленно.

Иллюстрация к рассказу Андрея Голышева «О, синема!»
Изменения происходили постепенно: те приёмы, которые мне казались слишком простыми, чтобы удостоить их своим великодизайнерским вниманием, стали самыми основными (например, однотонная подложка под заголовком), внутренние карточки очень постепенно переставали быть холстом для (моего, а не авторского) самовыражения и постепенно начали выполнять свою основную задачу — представлять отрывки из текстов. У дизайна выработались какие-то внятные характеристики: он многослойный, аналоговый, двухцветный, причём не слишком яркий из-за своей аналоговости (неосознанное, но удачное решение). Количество шрифтов всё же свелось к адекватному количеству из двух с вкраплениями экспериментов для конкретных форматов. Логотип перестал примерять все цвета радуги и стал определённого оттенка чёрным или чисто белым, занял своё фиксированное место и наконец стал восприниматься как постоянная или точка отсчёта, как оно и должно быть. Продолжали создаваться новые сущности (отдельный дизайн-код для каждого подкаста, например, и для некоторых спецпроектов), но это уже было осознанным и оправданным выходом за существующие рамки.
Следующим важным этапом (и это «вы находитесь здесь» отметка) стала покупка шрифтов. Секрет оказался не в сложности, не в разнообразии и художественности букв, а в качестве, профессионализме и математическом волшебстве настоящих мастеров. Мы купили три шрифта от студии CSTM Fonts в нескольких начертаниях. Первый — технический, Cera Mono. Тут много не скажешь, просто отлично сделанный, стильный, понятный, чуть олдскульный, что отлично ложится в общую канву, да так ложится, что я до сих пор иногда противлюсь всем законам и использую его иногда как основной внутри карточек. Второй — (законный) шрифт для основного текста, KazimirText, и я долго спрашивала себя, не нравится ли он нам больше остальных только потому, что зовут его также, как нашего (с главредом) сына. Но нет! Это действительно лучший вариант, и со временем мы в этом только убеждаемся. И шрифт, на который вы сейчас смотрите, — как раз он. И наконец, моя главная любовь — шрифт для заголовков, Maregraphe Display, который вы могли видеть, например, на обложке книги «Радио Мартын» (где он выглядит почти неузнаваемо, и всё же это он) или на обложке двуязычных книг издательства Hyperboreus. Его мы проверяли тщательнее остальных: было важно, чтобы им можно было одновременно написать и что-то нелепое, и что-то трагическое, и это не выглядело бы как издёвка (одна из основных причин, по которым прежде я скакала с одного шрифта на другой). Этот шрифт, на мой взгляд, составил какое-то новое самоощущение демагогского дизайна: благодаря нему я стала по-настоящему гордиться тем, как выглядит журнал. Конечно, дело не в одном шрифте. Я села написать короткую заметку о нашем дизайне и обнаружила себя в 4 часа утра — очевидно, мы проделали путь, что-то для себя проговорили, что-то отвергли прежде, чем появились шрифты, появились очень вовремя и составили какой-то последний на сегодняшний день пазл, но точно не на пустом месте. Теперь работать с действительно классным шрифтом — моя ежедневная радость.
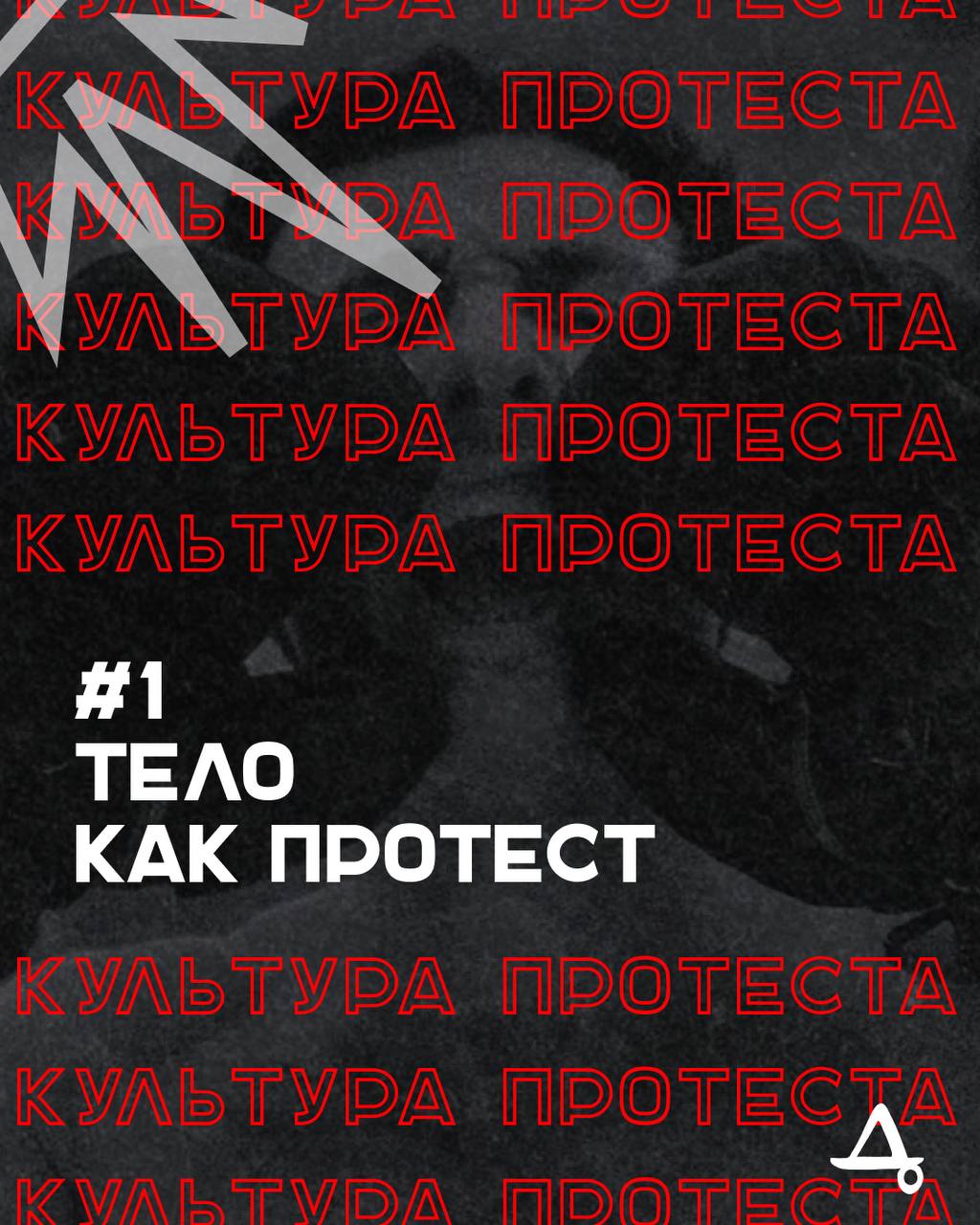
Карточка к первому выпуску подкаста «Культура протеста»
Впереди ещё очень много работы. Во-первых, я мечтаю вернуть художественные и разнообразные иллюстрации. Сейчас я банально не успеваю их заказывать, потому что поток материалов слишком большой и не всегда предсказуемый — в последний момент куда проще разрулить всё самой, а не вступать в диалог с художницей, что интересно и очень круто, но требует дополнительных времени и сил, которые не всегда есть. У меня под рукой — целый букет ценнейших контактов, собранные как на заре журнала, так и в более позднее время, и все они по большей части пылятся, что мне бы очень хотелось исправить. Кроме этого, я мечтаю найти смелость и время на переделку сайта: это огромное, в моих глазах просто неподъёмное дело, которое непременно надо сделать, но проходить снова дорожку от новичка (как я ещё раз убедилась, благодаря этому тексту) очень трудно, хотя и бесконечно интересно. Совсем недавно мы добавили наши купленные шрифты на сайт (и об этом, вообще-то и должна была быть моя небольшая заметка), и это уже значительно улучшило дело. Но Демагог — это проект, достойный отличного сайта не только в смысле шрифтов, проект, в котором с самого начала и по сей день существует огромное пространство для игры, шутки, глупостей и умностей, споров и поисков, и кто я такая, чтобы не пользоваться этим по полной — в своей вотчине.
Демагог — журнал о независимой культуре.
Мы берём интервью у андеграундных режиссёров, выпускаем рецензии на главные книги независимых издательств, рассказываем о новостях культуры, репрессиях, цензуре и релизах, публикуем аналитические материалы о прошлом, настоящем и будущем.
Вы можете помочь рассказывать больше и чаще о настоящей живой культуре, подключив ежемесячное пожертвование на Boosty (для тех, кто в России) или Patreon (для тех, кто вне России). Помните, что Демагог — свободный журнал для свободных людей. Мы зависим только от вас!