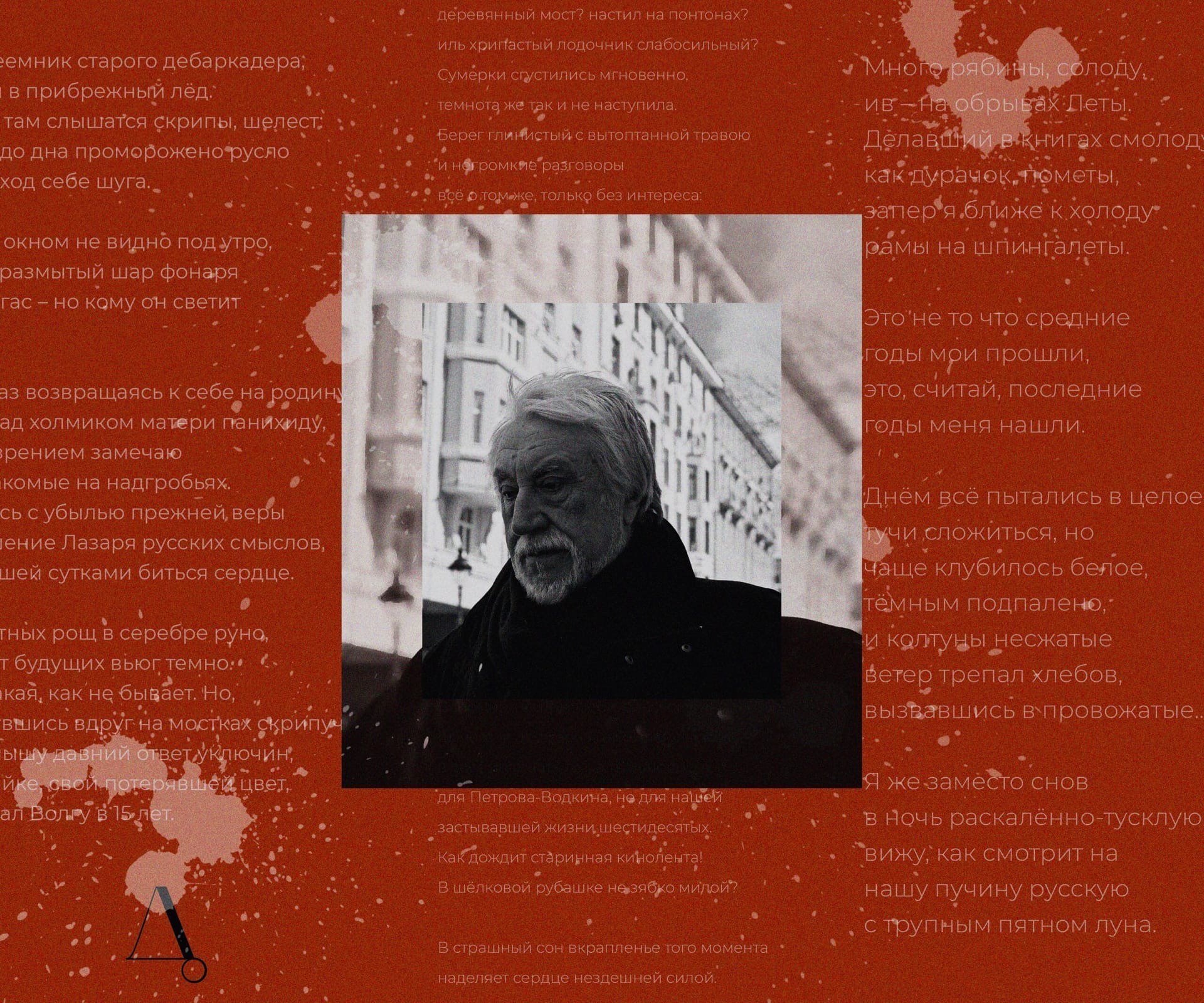Юрий Михайлович, что для вас значит литература?
Литература – мой вечный спутник. Сколько я себя помню, я всегда был с книгой, с литературой. Быть может, благодаря тому, что у меня мама была преподавателем литературы, причём преподавателем неординарным — в нашем доме звучали стихи, которые тогда отнюдь не были в фаворе. Я имею в виду раннего Есенина и раннего Маяковского. Пожалуй, литература стала моей составляющей частью жизни ещё до того, как я научился читать. С трёх-четырёх лет бабушка — да и мама — постоянно читали мне книги, как правило, по вечерам перед сном. И не было ни дня пропуска. Прежде всего, русские сказки, сказки Пушкина, потом сказки народов мира. Ну и постепенно, как только я научился читать, я втянулся в процесс чтения и стал просто глотать книги: Жюль Верн, Майн Рид, Дюма – их прозаические миры стали частью моего существования, не менее реальной, чем текущая жизнь. И так по сегодня. Скажу, без преувеличения: не было в моей жизни дня, когда бы я ни прочитал хоть несколько страниц…
Кто повлиял на ваше поэтическое становление?
В отрочестве — Андрей Вознесенский, ранний Маяковский и ранний Борис Пастернак. Но со временем я стал ценить поэзию более, так сказать, классическую, более упорядоченную, лишенную экстравагантной деформации образов. Тогда моими вечными спутниками стали Ахматова, Ходасевич, Георгий Иванов, Арсений Тарковский, а главное — Осип Мандельштам, который и поныне остаётся моим любимым поэтом. Конечно, зрелый Мандельштам — статья особая, и там образная деформация очень большая. Но в случае с Мандельштамом это мне никак не мешает. В нём есть неисчерпаемость, заставляющая замирать сердце.
Почему вы решили начать писать стихи?
Это не было силовым решением. Однажды я почувствовал какое-то веяние. Да, очевидно, первый импульс был связан с прочтением стихов Вознесенского, которые меня чрезвычайно в ту пору увлекли. А именно с его тогда гремевшей поэмой «Треугольная груша». До этого я занимался рисованием, и весьма успешно. Мои этюды выставлялись уже не только на городских, но и на областных выставках. Но потом вдруг позвала поэзия, и я сразу как бы разучился рисовать. До этого я знал уже куда какую краску накладывать, а тут сразу разучился. Очевидно, муза изобразительного искусства не простила мне предательства.
Вы были знакомы и общались с поэтами разных поколений, но к какому поколению вы сами себя относите?
К поколению самиздата и тамиздата. Когда я попытался сформулировать свою поэтическую задачу впервые, я обозначил её так: во-первых, перебросить мостик через трясину советской словесности, где было, конечно, несколько талантливых советских поэтов, в меру талантливых. Но в целом, это была соцреалистическая трясина, неряшливая, насыщенная идеологией, словесная каша. Перебросить мостик в Серебряный век и от Серебряного к Золотому. А во-вторых, я так сформулировал свою поэтическую задачу – новизна в каноне. Как в русской иконе. Всё кажется канонично, всё кажется однотипно, и вместе с тем нет двух похожих друг на друга икон. Вот этому своему определению я остаюсь верен и по сей день. Традиция, но традиция вне эклектики. Традиция, которая питается новаторскими токами и вырастает из своеобычных корней.
Для кого ваша поэзия? Как вы представляете своего читателя?
Она для тех, кто любит поэзию. Кто готов перечитывать стихотворения, кому это в радость. Александр Солженицын написал однажды, что моя поэзия требует многоразового прочитывания. Конечно, это и так. Но этого же требует и любая стоящая поэзия. Почти невозможно проникнуть в поэтический мир нахрапом. Необходимо вживание, постижение. Это очень редко у кого получается. Но эта интеллектуальная и душевная работа не остаётся бесплодной. Настоящая поэзия закаляет сердце человека, делает его умнее, состоятельнее и просто по-человечески лучше. С поэзией никакая беда не страшна, вернее, не так страшна.
Как видите Вы русскую поэзию завтрашнего дня?
С трудом вижу. Ведь наша поэзия – не что-то обособленное. Она включена в культуру христианской цивилизации. А культура эта в мире, прямо скажем, сжимается как шагреневая кожа. Так что, какой будет поэзия, я не знаю. Уже ведь ушла из человечества практически настоящая живопись, заменилась перформансами или просто какими-то актами. Всё меньше поэтического остаётся и в литературе. Но всё-таки надежда умирает последней, и я России без поэзии не представляю. Это будет уже не Россия, вернее, не та Россия, которой я служил и служу.
А знакомы ли Вы сейчас с современной поэзией, следите ли вы за ее развитием?
Конечно, знаком. В течение многих лет я руководил отделом поэзии журнала «Новый мир», так что ко мне стекалась поэзия со всей России. Время от времени встречаются достаточно сильные стихи. Но какого-то самобытного и оригинального лирического микрокосма, честно скажу, я не встречал.
Возможно ли, что в недалеком будущем люди забудут поэзию, книги и вообще литературу. Если да, то к чему это приведёт?
Я думаю, что это приведёт к культурному оскудению человечества, очень сильному оскудению. Это будет уже другой человек, те молодые люди, которые не читают книг, не читают стихов, не читают романов. О них хорошо написал один мой приятель, ученик Анны Ахматовой, поэт Дмитрий Бобышев: «Здравствуй, молодое и незнакомое племя, похожее на людей». Это уже какие-то новые особи, мне чужие, и даже меня пугающие.
А теперь, любое ваше стихотворение.
***
И. Б.
Систола – сжатие полунапрасное
гонит из красного красное в красное.
...Словно шинель на шёлку,
льнёт, простужая, имперское – к женскому
около Спаса, что к Преображенскому
так и приписан полку.
Мы ль предадим наши ночи болотные,
склепы гранитные, гульбища ротные,
плацы, где сякнут ветра,
понову копоть вдыхая угарную,
мы ль не помянем сухую столярную
стружку владыки Петра?
Мы ль... Но забудь эту присказку мыльную.
Ты ль позабудешь про сторону тыльную
дерева, где вороньё?
Нам умирать на Васильевской линии!
– отогревая тряпицами в инее
певчее зево своё.
Ведь не тобою ли прямо обещаны
были асфальта сетчатые трещины,
переведённые с карт?
Но воевавший за слово сипатое,
вновь подниму я лицо бородатое
на посрамлённый штандарт.
Белое – это полоски под кольцами,
это когда пацаны добровольцами,
это когда никого
нет пред открытыми Богу божницами,
ибо все белые с белыми лицами
за спину стали Его.
Синее – это когда пригнетаются
беженцы к берегу, бредят и маются
у византийских камней,
годных ещё на могильник в Галлиполи,
синее – наше, а птицы мы, рыбы ли
– это не важно, ей-ей.
Друг, я спрошу тебя самое главное:
ежели прежнее всё – неисправное,
что же нас ждёт впереди?
Скажешь, мол, дело известное, ясное.
Красное – это из красного в красное
в стынущей честно груди.