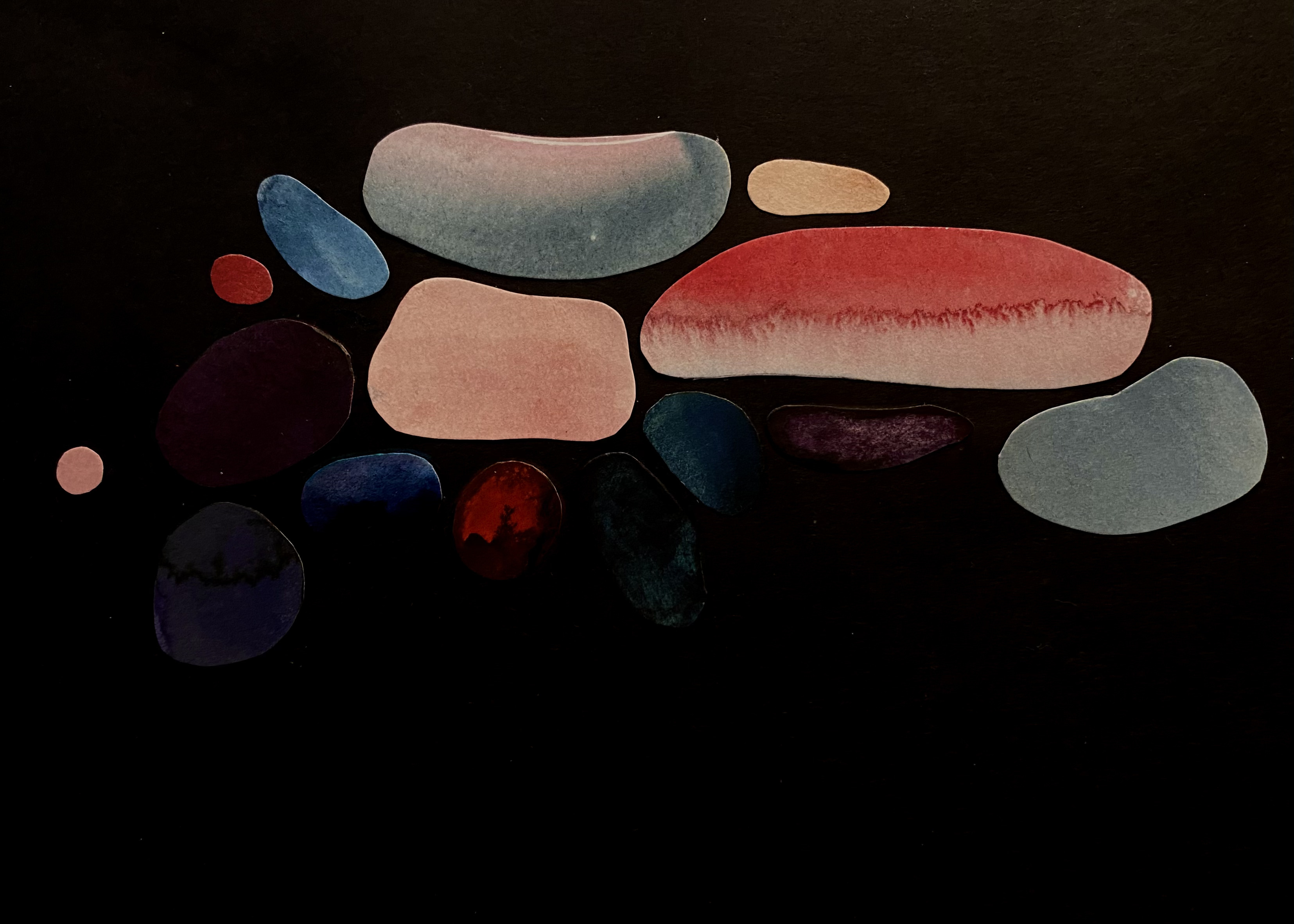* * *
абу́
га́ви
ту́ки
ми́на
во́ка
та́ми
лю́ки
а́ви
кха
алло
бру́
ку́ли
бу́ли
там
бам
Октябрь 1963, Баку (автору меньше полутора лет)
Текст взят из письма моей бабушки Дины Самойловны Якоби к её дочери и моей тёте Галине Ильиничне Нестеровой, отправленного из Баку в Москву 15 октября 1963.
Герка — это я, а Маринка (Маришка) — дочь тёти Гали, моя старшая двоюродная сестра Марина Нестерова.
Вот что пишет наша бабушка:
«...Ну, что ещё? Да, я про Герку забыла Маринке написать, что кроме тех слов, что он знает, он иногда, особенно когда чем-нибудь недоволен, начинает что-то говорить на каком-то особенном своём, тарабарском языке, и так это у него интересно получается: напр<имер>, „абу́, га́ви, ту́ки, ми́на, во́ка, та́ми, лю́ки, а́ви, кха, алло (это словечко он знает для телефона), бру́, ку́ли, бу́ли, там, бам“ и ещё бог знает что — я даже не могу передать, это так разнообразно, что туда входят буквально все звуки во всевозможных сочетаниях, и после каждого слова он ставит запятую. Полное впечатление членораздельного разговора. Потеха».
Поскольку этот свой записанный бабушкой заумный монолог я воспринимаю как поэтический, в духе кручёныховского «дыр бул щыл», заменил запятые на концы стихотворных строк.
* * *
Я нарисую на камне козу.
Я нарисую на камне лису.
Я нарисую на камне коня.
Кто-то рисует на камне меня.
1967, Баку (автору 5 лет)
Всю жизнь, до относительно недавнего времени, я считал, что это моё первое стихотворение, пока в бабушкиных письмах не обнаружил предыдущего. В каком-то смысле оно всё же, видимо, и есть первое — первое сознательное (и при этом сохранившееся).
Я сочинил его, когда мне было 5 лет. Я жил тогда в городе Баку. Я помню, как я его сочинял. Помню вдохновение, особое воодушевление, меня охватившее. Я был один в комнате. Мы жили тогда на улице лейтенанта Шмидта, дом 8, квартира 88 (позднее номер квартиры поменяли на 78). Напротив Садика 26-ти (ныне парк Сахил). Стихотворение будто само приходило мне в голову, строчка за строчкой, а я ходил по комнате, бормоча их, и когда произнёс последнюю, четвёртую, вдруг понял, что стихотворение окончено, и почувствовал, что всё изменилось, Вселенная изменилась, в ней появилось что-то такое, чего раньше никогда не было, и это что-то — моё стихотворение. Я испытал счастье. Стихотворение я прочитал бабушке, она пришла в восторг и написала всем нашим родственникам — в Москву, Ленинград и Одессу — что вот, мол, у нас в семье новый Пушкин растёт. Надеюсь, она не ошиблась.
Впоследствии моя творческая судьба складывалась непросто, и всерьёз я расписался, раскочегарился лишь в 27 лет, почти в 28. Лермонтов успел умереть к этому возрасту, даже раньше, а я только-только нашёл свой стиль. В промежутке, особенно в отрочестве, я написал довольно много стихов, которые не совсем считаются, но это, первое, всегда воспринимал как по-настоящему своё.
В самом деле, в нём уже видны характерные черты моего зрелого поэтического минимализма: миниатюрность, афористичность, поэтика повтора — прямого и синтаксического.
Стихотворение есть в моём старом Собр. соч. на «Вавилоне». В 2004 году оно публиковалось в 5-м выпуске сетевого журнала «Барсук» (это был журнал стихов и рассказов, написанных детьми или в детском возрасте). Иногда я упоминал это стихотворение в своих интервью. Одно из них, взятое Еленой Семёновой (Леной Листик), было озаглавлено первой его строкой («НГ-Exlibris», 16.10.2014).
Текст встречается в двух вариантах. Приведённый, с последней строкой «Кто-то рисует на камне меня», видимо, изначальный, судя по материалам моего архива. Иногда я цитировал с другой последней строкой: «Ты нарисуешь на камне меня» — это была ошибка моей памяти.
Стихотворение как минимум дважды иллюстрировали — в 2004 году Люся Милько для публикации в упомянутом «Барсуке», а в 2017 году Анатолий Семенихин (рисунок со своим комментарием я выкладывал в фейсбуке).
Один из моих любимых поэтов, Сергей Панов, сказал, что это моя автоэпитафия.
* * *
Радуга, радуга,
На простынке радуга,
На моей башке
И даже на горшке!
Декабрь 1967, Баку (автору 5 лет)
Это стихотворение, как и первое приведённое, — из бабушкиных писем нашим родным, из Баку в Москву. Я его не помнил, обнаружил недавно, в письме, датированном 29 декабря 1967 года.
Герка — это я, а Гена — мой папа, бабушкин сын, поэт и художник Геннадий Ильич Лукомников.
Бабушка пишет: «...Да, Геркины стихи <далее текст стихотворения. — Г. Л.>. Это Гена принёс и повесил над моей кроватью, на гвоздь от ковра, своё большое стенное рижское зеркало».
Читаю этот свой стишок и бабушкин комментарий — и почти вспоминаю, так и вижу — не то чтобы само зеркало, но радужные отблески и блики от его ободка, рассыпанные по нашей комнате.
В соединении радуги с горшком (без сомнения, детским ночным горшком) явно присутствует «сопряжение далековатых понятий», по ломоносовскому определению поэзии.
Лайка у семицветов
(Научно-фантастический роман)
Говорят, что Лайка погибла. Так ли это?
На этом рукопись обрывается. 1969, Баку (автору 7 лет).
История этого текста такова. Я прочитал книжку про собаку Лайку, первое живое существо, отправленное в космос. Довольно большую детскую научно-популярную книжку, где подробно и трогательно описывалась жизнь этой собачки, тренировки, как её любили сотрудники всей этой космической индустрии и т.д. и т.п. И лишь ближе к концу книги, на одной из последних страниц, мельком, между прочим, было упомянуто, что возвращать из космоса тогда ещё не умели, так что Лайка, к сожалению, была оставлена там, на спутнике... Я не поверил своим глазам, перечитал ещё раз — всё так. Это стало для меня страшным потрясением. Я взял толстую общую тетрадь, написал крупными буквами заголовок, чуть ниже, в скобках, — подзаголовок... Я собирался подробно рассказать, как инопланетяне — семицветы — подобрали умирающую собачку, вы́ходили её и увезли на свою планету, рассказать о её дальнейших удивительных приключениях в космосе. Написал первые два предложения, а дальше не пошло. Постепенно стало ясно, что продолжать не обязательно, читатель прекрасно может остальное домыслить сам, так даже интереснее.
Тут тоже проявился мой минимализм, но тут он другого рода, если сравнивать с двумя предыдущими стихотворениями: минимализм эллиптичности, недоговорённости, минимализм наброска.
* * *
Дорогой Зорик!
Тороплюсь к тебе на деньрожденье.
И несу подарок —
не килограмм конфет, не лимонада
и не 300 кило мармелада.
А несу тебе я книжку
и бегу я, Зорик, вприпрыжку!
Извини за граммат. ошибки.
Видать, торопился шибко.
Твой друг Гера!
25 октября 1971, Баку (автору 9 лет)
В 2020 году со мной связался, разыскав меня в фейсбуке, мой друг детства, Зорик Шаевич. Мы учились в параллельных классах, пока я ещё жил в Баку.
Вместе ходили в театрально-кукольный кружок. Кажется, классе в третьем. Кружок этот в нашей 160-й школе вёл актёр и режиссёр бакинского кукольного театра. Звали его, как подсказывает Зорик, Альберт Яку́бович, а фамилию мы, к сожалению, не помним. Классный был дядька, с колоритной внешностью, очень доброжелательный и толковый. Это было моё первое знакомство и сотворчество с настоящим театральным профессионалом. Думаю, что научился у него некоторым азам актёрского дела.
Куклы у нас были перчаточные. Мы с Зориком играли ёжика в разных составах. В какой-то сказке про ёжиков, зайчиков и т.п. И ещё один наш друг и мой одноклассник Дима Двейрин тоже, кажется, играл эту роль. Наши два или три состава сыграли спектакль по одному разу. Помню, как я расстроился, что попал не в первый состав и на наше представление пришло очень мало зрителей, всего несколько человек. Вся школа собралась только на первый показ, где ёжика играл то ли Димка, то ли Зорик.
После шестого класса, летом 1975, я переехал в Москву, и мы с Зориком потеряли друг друга из виду.
И вот через 45 с половиной лет он нашёл меня в интернете! Оказалось, что после окончания школы он учился в Москве. В Театрально-художественном училище, затем в Институте культуры. Диплом художника по свету защищал, стажируясь в Театре сатиры на спектакле «Трёхгрошовая опера» с Мироновым в главной роли (тем самым Андреем Мироновым, одним из кумиров нашего детства!). Работал в Театре Ермоловой, заведовал постановочной частью в филиале Малого и художественными мастерскими в Театре кукол на «Бауманской», затем в шоу-бизнесе... Жизнь изрядно помотала его по свету — жил в Израиле, Америке, Канаде, Германии. В последние годы живёт в Литве.
Зорик рассказал, что в 1971 году, когда мы учились в третьем классе, я подарил ему на день рожденья книжку. Ему тогда исполнилось 10 лет. А мне было 9, я на полгода младше. Это была книжка Николая Носова «Витя Малеев в школе и дома». Книжка у Зорика не сохранилась, зато он прекрасно помнит мою стихотворную дарственную надпись на ней. Сам я этого не помню, но Зорику и его памяти в этом случае совершенно доверяю. С любезного позволения адресата я публиковал этот текст в фейсбуке.
Интересно, что фактически ту же рифму и подобный приём (но более концентрированно) я впоследствии вновь использовал — в стихотворении 2000 года: «Я вобще-то вумный шибко, / Но в стехах люблю обшибки».
* * *
В ночи застыло озеро
этюдом акварельным.
Над ним мерцают звёзды,
как над стихотвореньем.
Осеннее барокко.
Лепные облака.
Всевидящее око.
Незримая рука.
(Мы все – марионетки,
немые, как монетки
в игре «орёл иль решка?».
Король, ты тоже пешка!
Наш бог зовётся «случай» —
как молния, слепой,
жонглирующий душами
над бездной роковой...)
Осень 1975, Москва (автору 13 лет)
Это уже не совсем детское. Подростковое. Типичный «подростковый прыщ», как я сурово называю свои стихи этого периода. Видно, что автор обчитался Вознесенского и Блока и неуклюже пытается сварганить что-то в этом роде. Но как самое раннее из подростковых я бы хотел включить это стихотворение в подборку в качестве заключительного.
Этим стихотворением фактически начинается отроческо-ранне-юношеский период моего активного стихописания, начавшийся после моего переезда из Баку в Москву летом 1975 года, продлившийся 5 лет: с седьмого по десятый класс плюс «институтский» год (два семестра в техническом вузе — МИРЭА, потом я оттуда вылетел, поскольку толком там не учился) — и окончившийся осенью 1980, когда мой любимый поэт того времени, случайно и самостоятельно открытый мною гениальный Александр Ерёменко никак не отреагировал на подаренную ему подборку подобных моих стихов, что стало для меня не то чтобы причиной, но поводом почти на десять лет почти завязать со стихами (с конца 1980 по 1989).
И всё же я бесконечно благодарен единственному своему читателю времён отрочества, своему школьному другу, учившемуся классом младше меня, Лёше Корюкину-Башкайкину. Его внимательное и доброжелательное чтение моих тогдашних опусов было и остаётся для меня драгоценным.
Значительно позже, в 2001 году, я снабдил подборку своих ранних стихов (примерно тех самых, которые в 1980 подарил Ерёменко) заголовком «Альбомчик», посвящением Андрею Вознесенскому и эпиграфом: «В золото, в пурпур леса одевались, / Солнце играло на главах церквей. / Ждал я: но в месяцах дни потерялись, / Сотни томительных дней. // (Маяковский)». Выложил я этот «Альбомчик» в своём Собр. соч. на сайте «Вавилон» без датировок и комментариев и читал так же, без подсказок, на своих выступлениях. Многие подозревали, что это плаги-арт, как моё стихотворение «Парус» 1990 года, в точности совпадающее с одноимённым стихотворением Лермонтова. Но «оригинал», естественно, нигде не обнаруживался. В самом деле, получился своего рода плаги-арт: я присвоил свои собственные стихи, написанные более 20 лет назад.
«Альбомчик» я хотел и по-прежнему хочу выпустить отдельной книжкой. Подробнее об этом в другой раз.