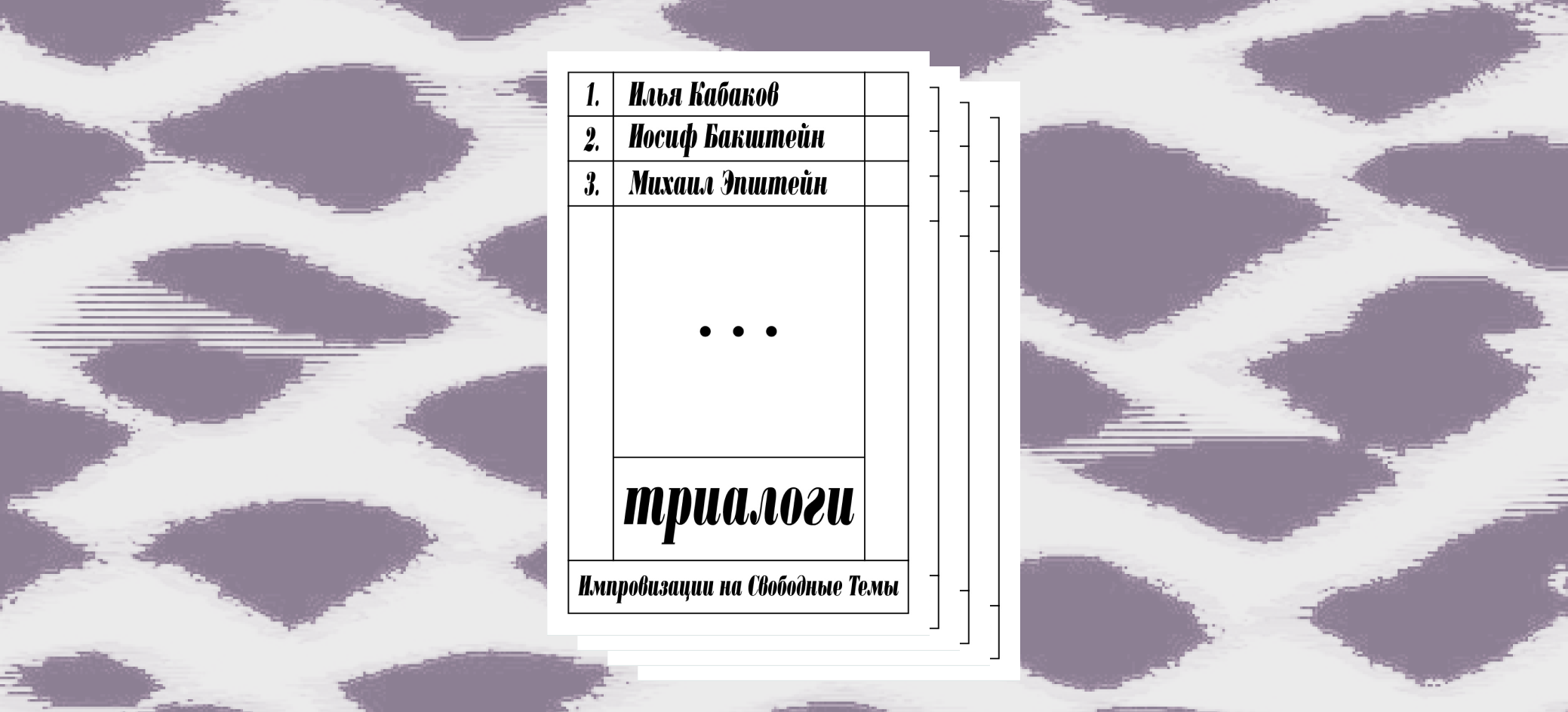Эссе — частью признание, как дневник, частью рассуждение, как статья, частью повествование, как рассказ. В нём соединяются: бытийная достоверность, идущая от исповеди, мыслительная обобщенность, идущая от философии, образная конкретность и пластичность, идущие от литературы. Это жанр, который только и держится своей принципиальной внежанровостью. Стоит ему обрести полную откровенность, чистосердечность интимных излияний — и он превращается в исповедь или дневник. Стоит увлечься логикой рассуждения, диалектическими переходами, процессом порождения мысли — и перед нами статья или трактат. Стоит впасть в повествовательную манеру, изображение событий, развивающихся по законам сюжета, — и невольно возникает новелла, рассказ, повесть.
Эссе только тогда остаётся собой, когда непрестанно пересекает границы других жанров, гонимое духом странствий, стремлением всё испытать и ничему не отдаться. Едва откровенность заходит слишком далеко, эссеист прикрывает е абстрактнейшим рассуждением, а едва рассуждение грозит перерасти в стройную метафизическую систему, разрушает её какой-нибудь неожиданной деталью, посторонним эпизодом. Эссе держится энергией взаимных помех, трением и сопротивлением плохо сочетаемых частей. Какому бы автору ни принадлежало эссе, в нём звучит некая жанровая интонация — неровная, сбивчивая: постоянное самоодёргиванье и самоподстёгиванье, смесь неуверенности и бесцеремонности, печаль изгнанника и дерзость бродяги. Эссеист каждый миг не знает, что же ему делать дальше, — и поэтому может позволить себе всё что угодно.
Хороший эссеист — не вполне искренний человек, не слишком последовательный мыслитель и весьма посредственный рассказчик, наделённый бедным воображением. Грубо говоря, эссе так же относится ко всем другим литературным жанрам, как поддавки — к шашкам. Тот, кто проигрывает в романе или трактате, не умея выдержать сюжета или системы, тот выигрывает в эссе, где только отступления имеют ценность. Эссе — искусство уступки, и побеждают в нём слабейшие. Основоположник жанра Мишель Монтень почти на каждой странице своих “Опытов” признаётся в своей творческой слабости, в отсутствии философских и художественных дарований, в бессилии сочинить что-либо выразительное, законченное и общеполезное. “…Тот, кто изобличит меня в невежестве, ничуть меня этим не обидит, так как в том, что я говорю, я не отвечаю даже перед собою, не то что перед другими, и какое-либо самодовольство мне чуждо… Если я и могу иной раз кое-что усвоить, то уж совершенно неспособен запоминать прочно. …Я заимствую у других то, что не умею выразить столь же хорошо либо по недостаточной выразительности моего языка, либо по слабости моего ума” (эссе “О книгах” [Монтень М. Опыты: В 3 кн. Кн. 12. М.: Наука, 1980. С. 355, 356. Ср. в эссе “О самомнении”: “Кроме того, что у меня никуда не годная память, мне свойствен ещё ряд других недостатков, усугубляющих моё невежество. Мой ум неповоротлив и вял” и т. д. (с. 581). — прим. автора]).
Эссе родилось из сочетания бессистемной философии, отрывочной беллетристики, неоткровенного дневника — и вдруг оказалось, что именно в своей неродовитости этот жанр необычайно гибок и плодовит. Не обременённый тяжёлым наследством, он, как всякий плебей, лучше приспособляется к бесконечно текучим условиям жизни, к разнообразию пишущих личностей, чем жанры, ведущие своё родословие от древности. Эссеизм — это смесь разнообразных недостатков и незаконченностей, которые внезапно дают обозреть ту область целого, которая решительно ускользает от жанров более определённых, имеющих свой идеал совершенства (поэма, трагедия, роман и пр.) — и потому отрезающих всё, что не вмещается в его рамки.
И тут внезапно выясняется, что эссе не на пустом месте возникло, что оно заполнило собою ту область цельного знания и выражения, которая раньше принадлежала мифу. Вот где корни этого жанра — в древности столь глубокой, что, возникнув заново в XVI веке, он кажется безродным, отсечённым от традиции. На самом деле эссе устремляется к тому единству жизни, мысли и образа, которое изначально, в синкретической форме, укоренялось в мифе. Лишь потом эта цельность мифа разделилась на три больших, вновь и вновь ветвящихся древа: житейское, образное и понятийное; описательно-документальное, художественно-фантазийное и философско-мыслительное. И тончайшая, хрупкая веточка эссеистики, пробившаяся в расселине этих трёх огромных разветвлений мифа, вдруг, дальше вытягиваясь и разрастаясь, оказалась продолжением главного ствола, средоточием той жизне-мысле-образной цельности, которая давно уже раздробилась в прочих, дальше и дальше расходящихся отраслях знания.
И теперь, в век возрождающейся мифологии, опыты целостного духовного созидания всё чаще выливаются именно в эссеистическую форму. У Фридриха Ницше и Мартина Хайдеггера эссеистической становится философия, у Томаса Манна и Роберта Музиля — литература, у Василия Розанова и Габриэля Марселя — дневник. Уже не периферийные, но центральные для культуры явления приобретают оттенок эссеистической живости, беглости, непринужденности, недосказанности. Отовсюду растёт тяга к мифологической цельности, которая в эссе дана не как осуществленность, а как возможность и влечение. Почти все новейшие образы-мифологемы — Сизиф у Альбера Камю, Орфей у Герберта Маркузе, доктор Фаустус и “волшебная гора” у Томаса Манна, “замок” и “процесс” у Франца Кафки, “полёт” и “цитадель” у Антуана Сент-Экзюпери — порождены эссеистической манерой письма: отчасти размышляющей, отчасти живописующей, отчасти исповедующейся и проповедующей, то есть стремящейся извести мысль из бытия и провести в бытие. В русло эссеизма вливаются полноводнейшие течения литературы и философии, отчасти даже науки ХX века: Карл Густав Юнг и Теодор Адорно, Альберт Швейцер и Конрад Лоренц, Андре Бретон и Альбер Камю, Поль Валери и Томас Стернз Элиот, Хорхе Луис Борхес и Октавио Пас, Ясунари Кавабата и Кобо Абэ, Генри Миллер и Норман Мейлер, Ролан Барт и Сьюзен Зонтаг. В России — Дмитрий Мережковский, Вячеслав И. Иванов, Лев Шестов, Марина Цветаева, Осип Мандельштам, Виктор Шкловский, Илья Эренбург, Иосиф Бродский, Андрей Синявский, Георгий Гачев, Андрей Битов, Сергей Аверинцев.
Эссеизм — направление гораздо более широкое и мощное, чем любое из философских или художественных направлений, шире, чем феноменология или экзистенциализм, сюрреализм или экспрессионизм и т. д., — именно потому, что он — не направление одной из культурных ветвей, а особое качество всей современной культуры, влекущейся к неомифологической цельности, к срастанию не только образа и понятия внутри культуры, но и её самой — с бытием за пределом культуры. Эссеизм — область творческого сознания столь же всеобъемлющая, стоящая над теми течениями, которые в неё вливаются, как и мифология, из которой все они проистекли.
Но есть глубокая разница между мифологией, возникшей до всяких культурных расчленений, и эссеизмом, возникающим впоследствии на их основе. Эссеизм соединяет образ и понятие, вымысел и действительность, но не уничтожает их самостоятельности. Этим эссеизм отличается от синкретической мифологии древних эпох. А также от тотальных мифологий ХX века, требующих признать идеал — фактом, необходимость — действительностью, отвлечённую мысль — материальной силой и двигателем человеческих масс, одну личность — образцом для всех других. Эссеизм воссоединяет распавшиеся части культуры — но оставляет между ними то пространство игры, иронии, рефлексии, остранённости, которое решительно враждебно догматической непреклонности всех мифологий, основанных на авторитете.
Эссеизм — мифология, основанная на авторстве. Самосознание одиночки опробует все свои возможные, поневоле относительные связи в единстве мира. Свобода личности не отрицается здесь в пользу “обезличивающего” мифа, но вырастает до права творить индивидуальный миф, обретать внеличное и сверхличное в самой
себе. Эта авторская свобода мифотворчества, включающая свободу от надличной логики самого мифа, формирует сам жанр. Эссе постоянно колеблется между мифом и не-мифом, между тождеством и различием: единичность совпадает с общностью, мысль — с образом, бытие — со значением, но совпадают не до конца, выступают краями, создающими неровность, сбив… И только так, уповая на целое, но не забывая о разности его составляющих, может сбыться современное мироощущение.
Монтень придавал символическое значение надписи, начертанной на коромысле его весов: “Что знаю я?” (II, XII, 462). Действительно, этот вопрос — центральный в миросозерцании Монтеня, единственная неподвижная точка во всей “качающейся” системе его “Опытов”. “Весь мир — это вечные качели” (III, 2, 19). Эссе — не единство мысли-образа-бытия, но именно опыт их соединения, попытка уравновешивания. Весы, на одну чашу которых положен факт, а на другую — идея, находятся в постоянном колебании, a устойчивым, как основание коромысла, остаётся лишь сомнение. Само французское слово essai произошло от латинского exagium, что означает “взвешивание”. Подвижное равновесие составляющих входит не только в существо, но и в название жанра.
Эссеизм — это экспериментальная мифология, правда постепенного и неокончательного приближения к мифу, а не ложь тотального совпадения с ним. Эссеизм — это попытка предотвратить как распыление культуры, так и её насильственное объединение; как плюрализм распавшихся частностей, так и централизм нетерпимого целого; как раздробленность узкопрофессиональной светской культуры, так и монолитность обмирщённого культа, возрождаемого с тем более фанатическим рвением, чем менее соединимы разошедшиеся края фантазии и реальности и чем труднее их спаять в непреложный догмат веры.
Эссеизм — это опыт объединения без принуждения, попытка предположить совместимость, а не навязать совместность, опыт, оставляющий в сердцевине Целого переживание неуверенности, пространство возможного, то осторожное монтеневское “не умею”, “не знаю”, которое единственно свято перед лицом сакрализирующей массовой мифологии. “Моё мнение о вещах не есть мера самих вещей, оно лишь должно разъяснить, в какой мере я вижу эти вещи” (Мишель Монтень [Монтень М. Опыты. С. 357 — прим. автора]). Дерзость виденья — и благоговение перед самими вещами. Смелость посылок — и кротость выводов. Только благодаря этим двум дополнительным условиям, содержащимся в эссе, может создаться в наш век нечто поистине достойное…
Это эссе изменило своей теме “эссе”, перейдя на значительно более широкое, несущее надежду всей культуре понятие “эссеизм”. Но, кажется, только изменяя теме, эссе может оставаться верным своему жанру [Подробнее о жанре эссе и о развитии эссеизма см.: Эпштейн М. Законы свободного жанра. Эссеистика и эссеизм в культуре Нового времени // Вопросы литературы. 1987. № 7. С. 120–152. Вошло в его книгу: Все эссе. В 2 т. Т. 1. В России (1970–1980-е); Т. 2. Из Америки (1990–2000-е). Екатеринбург: У-Фактория, 2005. 544 с. + 704 с. — прим. автора].
* * *
Как эссе, так и импровизация являются формами потенциального в культуре, тех возможностей, которые в каждом случае, при каждой конкретной попытке остаются нереализованными. Мы не должны ожидать от импровизации таких литературных шедевров, какие создаются в результате длительной, кропотливой, единоличной работы. Как правило, литературное или научное качество импровизаций ниже, чем произведений устоявшихся жанров или дисциплин. Точно так же не существует эссе, сравнимых по ценности и величию с эпосом Гомера, трагедиями Шекспира, трактатами Гегеля или романами Достоевского. Но это не означает, что эссе — низший жанр; напротив, он объединяет в себе возможности других жанров: философского, исторического и художественного. Сама широта возможностей усложняет задачу полной их реализации, поскольку расхождение между действительным исполнением и потенциальным совершенством сильнее в эссе, чем в более специфических и структурированных жанрах. Существуют совершенные по форме басни, сонеты и, возможно, рассказы, но даже великие романы часто поражают нас своими “колоссальными провалами” (по словам Уильяма Фолкнера, Томас Вулф был лучшим романистом своего поколения именно благодаря тому, что потерпел “более великую” неудачу, чем другие авторы). Ещё сложнее достичь выдающегося успеха в эссе, поскольку этот жанр текуч и неопределёнен; в нём отсутствуют чёткие правила, задаваемые нарративной структурой романа или логической структурой философского дискурса.
Итак, импровизация, как правило, не достигает высоты индивидуального творчества, искренности личного общения или точности научного исследования. Импровизация проигрывает в сравнении с литературой, искусством, наукой… Но зато она включает в себя все эти элементы, которые в идеальном сочетании создают произведение в жанре самой культуры.