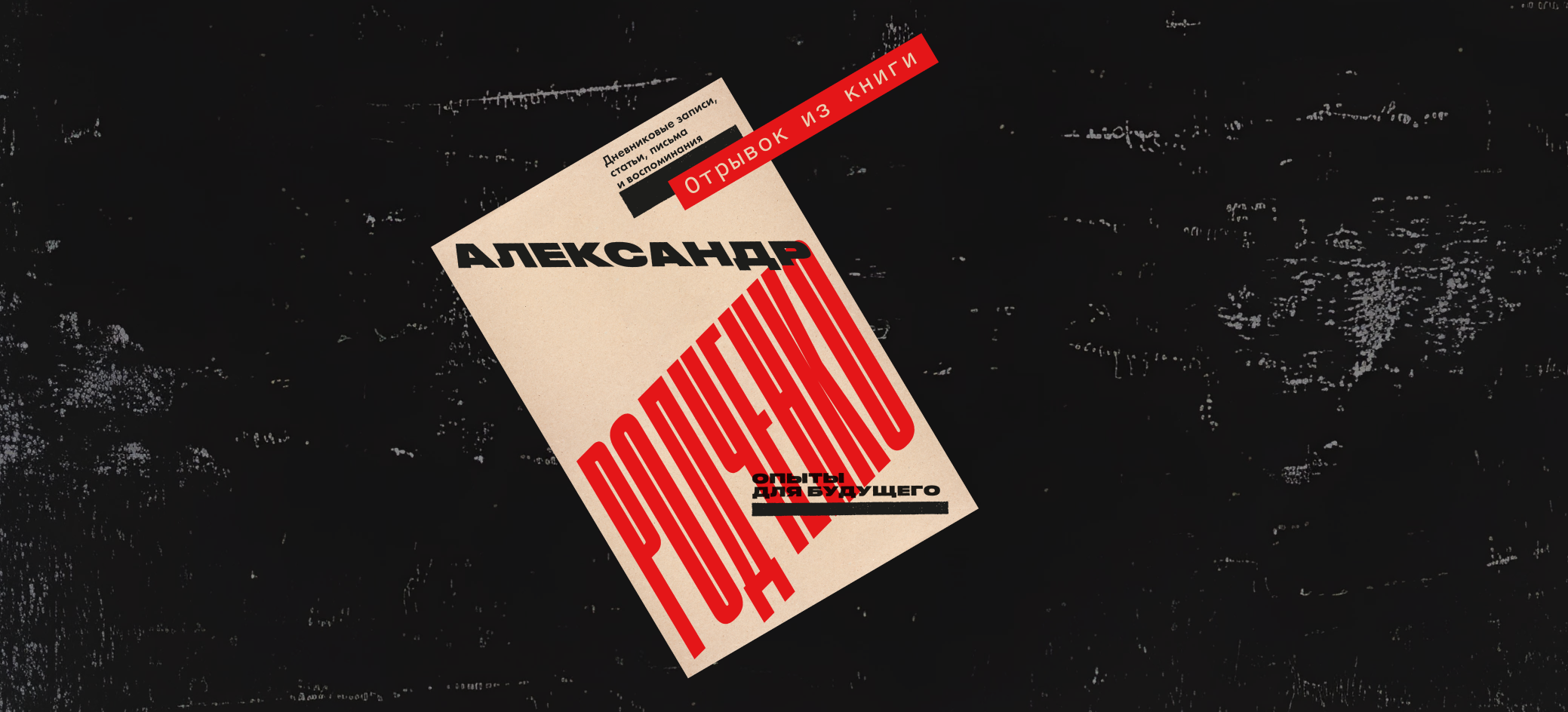…Мы смерть зовём рожденья во имя.
Во имя бега,
паренья,
реянья.
Когда ж
прорвёмся сквозь заставы,
и праздник будет за болью боя, —
Мы
все украшенья
расставить заставим —
любите любое!..
В. Маяковский
После мучительных размышлений, — как писать воспоминания, как составить план, — и разочаровавшись во всех выдуманных проектах, решил совершенно просто.
Положив пачку узких полосок бумаги и написав для учёта 2 мая 1939 года, начал писать. Листы были длинные и узкие, и опять белые, как ненавистный холст, на котором нужно выдумать, что нарисовать углём и замазать краской, чтобы уничтожить эту проклятую белизну… Так и тут то же самое.
Только в юности больше мечталось и казалось возможным, что новый холст будет необычайно чудесным и все, именно все будут удивлены.
Но теперь точно знаешь, что он может быть немного лучше предыдущего или хуже, и, может быть, даже… много хуже.
Я бы не писал этого, но нужно написать про все встречи с Маяковским. Лучше было бы всю жизнь одолевать эти белые холсты, и больше ни о чём не думать — ни о фотографиях, ни о деньгах.
Составил план и опечалился. Всё же начинать нельзя, нужно разобрать материалы по папкам, установить года…
1912 год
Условность начинать с погоды заставила меня думать как о воспоминаниях, так и о ней самой.
Погода была переменная, но чаще всего стрелка стояла на “буре и шторме” и уже значительно позднее показывала “пасмурно”.
Ясность и смелость была у всех и всегда.
Начать труднее, чем кончить, определить начало — это уже и есть решение конца, потому что в жизни нет ни начала, ни конца и трудно вырезать где-то кусок.
Началом определяется тон и стиль всей вещи, часто видно по первой фразе мастерство автора.
Интересно было бы сделать книгу из фотографий, пересняв всё, что нужно: и документы, и вещи, и людей.
О.М. Брик как-то рассказывал, что не то он, не то Шкловский написал, или хотел написать сценарий для кино, где действие происходит всё время у одного окна; и то, что на окне, и то, что видно в окно, во всех измерениях показывало: царское время, империалистическую войну, Октябрьскую революцию и начало социализма…
Примерно так: окно… занавески… цветы… канарейка… гимназист собирается в гимназию… чиновник с бакенбардами читает “Биржевые ведомости”… в окне напротив аптека… золотые орлы… рядом “поставщик двора его величества” Василий Перлов… стоит городовой… проезжает ландо… синяя сетка, толстый усатый кучер, в ландо офицер, дама…
Война…
Окно… отец чиновник, сын прапорщик… на улице проходят на фронт солдаты, поют… трамваи с ранеными… манифестации “до победного конца”…
Февральская революция…
Окно… прапорщик, перевязанная рука, красный большой бант… чиновник бросает в окно цветы… гимназист тоже с бантом… на улице беспорядочная демонстрация… на аптеке золотой орёл завешен красной материей…
Октябрьская революция
Окно… стекло пробито… переодетые городовые и попы стреляют… улица пуста… орел снят… Василий Перлов исчез… всё меняется и меняется… очереди… сугробы… дохлая лошадь… понурые люди везут на саночках кульки, дрова… на окне труба буржуйки… разбитое стекло забито фанерой… на подоконнике жестяной чайник… пулемётный пояс…
Меняется и меняется…
Окно… чистенькие занавески… цветы… у окна мать и два сына.
Один — орденоносец, другой — пионер, на улице демонстрация — двадцатая годовщина Октябрьской революции… проходит… и начинается уличное движение, автомобили… автобусы… троллейбусы… напротив метро… универмаг… и так далее…
В юности, когда особенно казалось тёмным будущее и было нестерпимо одиноко, я уходил на “Чёрное озеро”. Это был общественный сад, народный сад в Казани, где играл оркестр военной музыки, а после ухода оркестра через высокий забор был слышен струнный оркестр кафешантана.
В саду гуляли люди “низшего сословия”, сад находился в сыром месте, на дне высохшего озера.
В городе было ещё два сада: Державинский и Лядской. В Державинском, естественно, стоял памятник Державину в виде мужчины в женской рубашке, в сандалиях и с головою Зевса, показывая куда-то рукой, очевидно, в Императорскую академию художеств, где его таким сделали потомки. Направо от этого богообразного мужчины стояло здание Дворянского собрания или клуба, прямо — большой театр, а налево — почта, совсем как в Москве Страстная площадь. В Державинском саду гуляла “чистая” публика — интеллигенция, чиновники, студенты, гимназисты и прочие, но уже без оркестра. Сад этот был разделан клумбами, акациями, хорошими скамейками, но гулять в нём было противно.
Была в Казани главная улица — Воскресенская, и однажды на витрине какого-то магазина появилась афиша, не помню текста, но что-то вроде:
“Три футуриста”
Д.Д. БУРЛЮК
В.В. КАМЕНСКИЙ
В.В. МАЯКОВСКИЙ
В садах у афишной витрины обсуждали их приезд.
В Казанской художественной школе, в которой я учился, самые левые из студентов были Игорь Никитин и я.
В коридоре школы обсуждали, что такое футуризм?
* * *
…Так трудно писать, что удивляюсь и завидую Толстому и Достоевскому: они так легко писали.
Флобер в письмах пишет, что ему было мучительно трудно писать, и “Мадам Бовари” сделалась с большим трудом; а по существу вещь эта неинтересная, а письма его исключительно интересны…
Театр с детства я не считал зрелищем, так как я вырос на сцене.
Отец был бутафором.
Обычно он никуда не ходил, но как-то он нас взял в цирк. Цирк настолько поразил меня, что это осталось на всю жизнь любимым зрелищем. В нём было всё необычайным. Обычные вещи летали, вертелись, превращались. Собаки читали, пели, кувыркались…
Лошади танцевали… Люди стояли на голове, на руках, летали… Люди-феномены не сгорали в огне, неуязвимые люди-змеи… Костюмы их были ярки, фантастичны. Люди говорили нечеловеческим голосом.
Цирк — это настоящее зрелище неожиданностей, ловкости, красок, смеха, ужаса, музыки и т. д.
Второе потрясающее зрелище был вечер футуристов в этом важном Дворянском собрании.
Мне нравится беременный мужчина,
Как он хорош у памятника Пушкина,
Где, укрывшись лицом платка старушкина,
Одетый в серую тужурку,
Ковыряя пальцем штукатурку,
Не знает, мальчик или девочка
Выйдет из злобного семечка.
Очаровательна беременная башня.
Там так много живых солдат,
И вешняя брюхатая пашня,
Из коей листики зелёные уже торчат.
Крик… Свист… Хохот… Возмущение…
Бурлюк, напудренный, с серьгой в одном ухе, торжественен и невозмутим…
Презрительно сложив губы, внимательно и тщательно рассматривает беснующую толпу в лорнет.
Это он делает блестяще.
Василий Каменский в светлом костюме, с гигантской хризантемой в петлице, высоко подняв голову, весь какой-то сверкающий, читает нараспев…
КАКОФОНИЮ ДУШИ
МОТОРОВ симфонию
——— фррррррр
Это Я, Это Я
футурист ПЕСНЕБОЕЦ и
пилот — авиатор
ВАСИЛИЙ КАМЕНСКИЙ
эластичным пропеллером
ВВИНТИЛ ОБЛАКА
кинув ТАМ
за визит
Дряблой смерти КОКОТКЕ
из Жалости сшитое
ТАНГОВОЕ МАНТО и
чулки с
ПАНТАЛОНАМИ.
Владимир Маяковский в жёлтой кофте низким, приятным, но перекрывающим весь шум зала, голосом читал:
Вошёл к парикмахеру, сказал — спокойный:
“Будьте добры, причешите мне уши”.
Гладкий парикмахер сразу стал хвойный,
Лицо вытянулось, как у груши.
“Сумасшедший!”
“Рыжий!” —
Запрыгали слова.
Ругань металась от писка до писка.
И до-о-о-о-лго
Хихикала чья-то голова,
Выдергиваясь из толпы, как старая редиска.
Читал Маяковский и Пушкина, но публика всё равно шикала, свистела, стучала…
Первый раз видел такое неистовство бушевавшей публики.
Довольно неприятное зрелище бесновавшейся интеллигенции мне ещё довелось увидеть в предоктябрьские дни, когда большевики выступали перед меньшевистски настроенной интеллигенцией.
Все трое в Казани они снимались и на вечере продавались фотографии. Я купил открытки Бурлюка и Маяковского. Бурлюк был снят на чёрном фоне, в чёрном костюме с лорнетом и презрительной гримасой. Маяковский тоже на чёрном, в чёрном цилиндре и с тростью в руках.
Вечер окончился, и медленно расходилась взволнованная, но по-разному, публика.
Враги и поклонники. Вторых было мало.
Ясно, я был не только поклонником, а гораздо больше, я был приверженцем.
У подъезда стояли, оживлённо обсуждали… Зачем-то и я встал, не хотелось идти домой.
Окружённые поклонниками выходили футуристы, им устроили овацию… Видел, как вышел Маяковский в цилиндре, с тростью и уехал на извозчике вместе с В. Вегером и его женой.
* * *
Казанская художественная школа отличалась большой терпимостью ко всяким новаторствам своих студентов.
Правда, в этой глубокой провинции наша “левизна” была очень относительной. Например, мы, то есть Никитин и я, будучи самыми левыми, писали одновременно под Врубеля и Гогена, левее до нас не доходило. Несмотря на это, мы всё же делали безусловно интересные вещи.
В коридорах школы висели “образцы” — лучшие работы студентов за все времена — в духе Переплётчикова, Сергея Иванова, Дубовского и других — вещи серенькие, обыденные, от этих “образцов” веяло безысходной тоской, интеллигентской обывательщиной. От одного взгляда на них не хотелось заниматься не только живописью, но и вообще ничем.
Среди ученических образцов висел довольно обыкновенный пейзаж, но в более сильных тонах и в более смелой манере. Это был этюд Д.Д. Бурлюка. Он до меня учился в Казанской художественной школе.
В Казани был городской музей, пожертвованный неким Лихачёвым, но там был такой сброд копий и перекопий “неизвестных” мастеров, что туда только и ходили на свидания.
Наше знакомство с искусством Москвы и Петербурга и Западом было только через журналы в школьной библиотеке, и те были случайны.
Профессорами нашими были Радимовы, Скорняковы, Денисовы; говорить об их талантах не приходится.
“Свет во тьме” — Н. Фешин, безусловно способный человек, но он был занят Америкой, этот хитрый, самолюбивый, расчётливый профессор, далеко рассчитал своё бегство в Америку и не интересовался не только школой, но и Россией.
“Русский художник”, окончивший Академию художеств, надежда реалистов, получивший золотую медаль за русскую картину “Капустницы”, преподавал в школе, писал учениц школы то с цветами, то с книжкой, то с кошечкой… Беспрерывно экспортировал их в Америку, называя по-американски “Мисс Анта”, “Мисс Кэт”, “Мисс Мэри” и т. д.
Когда же эти “миссы” достаточно “намиссили” долларов, русского художника только и видели.
Прочие “профессора”, не столь талантливые, как “мистер Ник. Фешин”, жили тихой обывательской жизнью, строили дачки, ходили друг к другу пить чай и в общественной художественной жизни Казани не участвовали.
Итак, музея русской живописи не было, выставки устраивались редко, да и то только этих же мастеров. В казанских театрах художников выписывали из Москвы посезонно.
Большинство студентов в школе были приезжие из Сибири, и летом нас, казанцев, оставалось всего человек десять.
В 1913 году наши казанские профессора устроили “Периодическую” выставку и на неё, кроме себя, пригласили особо талантливых старших студентов, вроде меня, Игоря Никитина и своего любимца Дементьева, пишущего серенько. Это приглашение считалось большой честью для нас, и мы могли дать не более двух вещей.
Я выставил две темперы в тёмных, но колоритных тонах, изображавших карнавал на фоне архитектурных фантазий. Одну из этих вещей купил присяжный поверенный Н.Н. Андреев. С этого времени началось у нас знакомство. Я стал часто бывать у Андреева. У него было небольшое собрание живописи: изумительная “Карусель” Сапунова, такого Сапунова я до сих пор не видел. Два пейзажа Крымова, “Скачки” Г.Б. Якулова и другие. Жена Н.Н. Андреева оказалась сестрой Якулова.
Кроме этого, у Андреева была неплохая библиотека по искусству — “Аполлон”, “Мир искусства”, “Золотое руно”, “Старые годы”, “София” и другие.
Сам Андреев был очень живой человек, маленького роста, чёрный, круглый, с очень подвижными пальцами и блестящими глазами. Он чем-то напоминал Евреинова и по странности персонаж Гофмана — Челионати.
Квартира Андреева была необычная: маленькая прихожая и неожиданно огромный кабинет с большим ковром на полу, как в “Матиссовой” комнате у Щукина, картины, книги, опять книги и, как будто, вовсе нет мебели.
Остальные комнаты были крохотны, как каюты, но всегда было шумно, много народу, в том числе бывал Вегер. Вегер был выслан в Казань и, как я узнал позднее, он сидел в Бутырках вместе с Маяковским.
Вегер был юристом и поэтому, вероятно, часто бывал у Андреева. “Вегера”, как их звали с женой, часто смеялись над Андреевым за его обрастание имуществом.
О Маяковском у Андреевых не говорили, так как футуристов Андреев не признавал. Он был достаточно умеренным и когда я в искусстве пошёл дальше, знакомство с ним прекратилось — он дальше “Мира искусства” не пошёл.
Андреев был постоянным юристом у известного в Казани пивоваренного заводчика немца Петцольда и, по-видимому, имел деньги, потому что он решил устроить выставку москвичей, но, будучи во всём умеренным и осторожным, Андреев не решился делать выставку даже своего любимого общества “Мир искусства”, а, как говорил он, для первого раза нужно показать Казани Общество русских художников, боясь, что сразу “Мир искусства” не будет понят.
Выставка успеха не имела ни у студентов, ни у публики. Повидимому, не поняли ни “умеренности”, ни реалистов.
Второй выставки, конечно, уже не пришлось устраивать.
Зато адвокаты решили устроить “адвокатскую ёлку” в одной из пустых квартир, и мне было поручено декорирование этого вечера. Несколько комнат я занял имитацией футуристической выставки, для этого написал двадцать футуристических вещей на картоне, клеевой краской; писал их с удовольствием.
Самую большую комнату оформил под ресторан, другие комнаты оформил под “восточные” из собранных адвокатских ковров. Вегер выпустил маленькую печатную юмористическую газету.
Как-то, роясь вечером в книгах у Андреева, мы наткнулись на тюк революционной журнальной литературы 1905 года, весь вечер мы их просматривали, но читать мне он не дал. Тюк снова запаковали, и я понял, что Андреев их бережёт как редкость, и только.
Один раз был у “Вегеров” — мы сговорились вместе идти в кино. Меня удивила студенческая обстановка квартиры.
Вскоре я уехал из Казани в Москву и больше не встречался ни с Андреевым, ни с Вегером.
В Москве в 1916 году я участвовал впервые на футуристической выставке “Магазин” на Петровке; это было моё первое в Москве выступление. Мы просто сложились и арендовали свободный магазин на месяц. Участвовали Татлин, Удальцова, Экстер, Попова, Бруни, Клюн, Пестель, Васильева, Малевич и я. Татлин и я не могли оплатить своего участия деньгами, а только своим трудом, поэтому я продавал билеты и дежурил на выставке, а Татлин был организатором и заведующим выставкой.
Малевич выставил кубистические вещи, всё скандалил и в конце концов снял вещи и ушёл с выставки.
Я выставил вещи абстрактные.
Мне, конечно, не легко даются воспоминания, одолевают всякие сомнения и особенно вопрос, правильны ли все эти отклонения в сторону и мои личные биографические описания. Но иначе я писать не мог, мне было бы неинтересно, да и никому было бы не нужно.
Атмосфера и ситуация, в какой мы работали на левом фронте, нужна; она может многое, непонятное теперь, объяснить.
1917 год
Мы, левые художники, пришли работать с большевиками первые.
И этого никто не имеет права отнять у нас, это можно только умышленно не помнить.
И не только пришли, но и за волосы тащили художников “Мир искусства” и Союз русских художников.
А чтобы это не забывалось, мы это напомним:
Мы первые оформляли советские демонстрации,
Мы первые советизировали и преподавали в художественных вузах,
Мы первые организовали советскую художественную промышленность,
Мы делали первые советские плакаты, стяги, знамена, РОСТу и т. д.
Мы перестроились, и настолько, что некоторые уже являются орденоносцами, кроме Н. Асеева, В. Шкловского, С. Кирсанова и других.
А то, что левые перестраиваются не так быстро, как перестроились правые, то, зато они долго ждали (правые). Да и не перестроились, а пристроились, не изменяясь, а лишь изменив тему, мастерство же часто делалось хуже.
Как я уговаривал художников в профессиональном союзе взять и перебраться в девятиэтажный дом, бывший Нирензее, в Гнездниковском переулке, там ведь каждому была бы мастерская; а на крыше огромная общая мастерская.
Я уже договорился с Моссоветом и комендантом этого дома. Из этого дома выселяли “бывших”, многие сами удрали, дом пустовал. Для образца я сам переехал — это была чудесная мастерская с газом, телефоном, с маленькой кухней и ванной, но… сколько я ни агитировал художников, они мялись… Они попросту боялись, что уйдут большевики и тогда… Не будем повторять того, что тогда говорилось…
В 1917 году мы организовали профессиональный союз; он состоял из трёх федераций:
МОЛОДАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СТАРШАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
В жизни их звали иначе: Левая, Центр, Правая…
В Молодой были левые художники ―
футуристы,
кубисты,
супрематисты,
беспредметники.
В Центральной художники ―
“Мир искусств”,
Союз русских художников,
“Бубновый валет”,
“Ослиный хвост” и др.
В Старшей художники ―
Союз русских художников,
“Передвижники” и др.
Председателем Молодой федерации был Татлин, секретарем — я.
Председателем Центральной — Нивинский, секретарем — Келер.
Председателем Старшей был Богатов, секретарем — Евреинов.
Ещё забыл написать: перед самой Октябрьской революцией мы нанялись с Татлиным работать исполнителями в кафе “Питтореск” на Кузнецком мосту, где теперь Всехудожник.
Хозяином этого “Питтореска” был капиталист Филиппов.
Филиппов — это почти все булочные в Москве. Он, по-видимому, решил сделать оригинальное кафе, поручив художнику Г.Б. Якулову оформление.
В общем я не знаю, как там было дело, но Якулов пригласил работать меня и Татлина.
Работали так: я разрабатывал эскизы для художников и большие рабочие детали по черновым карандашным наброскам Якулова. Якулов, получая много денег и живя в “Люксе”, сильно пил и делать хорошие эскизы было ему некогда.
Татлин, Удальцова и Бруни выполняли эти эскизы уже в самом кафе. Плата была, кажется, подённая, 3 или 5 рублей в день. Мне отвели комнату, и я начал работать.
Татлин принялся расписывать стёкла.
Денег не жалели настолько, что даже Велимиру Хлебникову заказали какой-то скетч написать. Чтобы это дело было, наверное, Хлебникову дали шикарный номер в “Люксе”, в бельэтаже, из двух комнат, но он, странный, приходил поздно ночью и, крадучись в темноте, ложился спать на полу, где-нибудь в уголке, и рано-рано утром уходил куда-то. Не знаю, написал он что-нибудь, или нет.
После Октябрьского переворота Татлину оставалось получить с Якулова и администратора какие-то деньги, а они, естественно, ввиду “неясного” положения, не собирались расплачиваться.
Ко мне обратился за советом Татлин. Как быть? Кому жаловаться?
Я посоветовал пойти в районный партийный комитет.
На другой день вечером пришёл Татлин грустный и рассказал мне, что в комитете ему посоветовали подать в суд; ну а какой же теперь суд, ясно, что дело затянется.
Я спрашиваю:
— Что-то это не то, а ты куда ходил-то?
— …Да в комитет.
— Какой?
— …Социал-революционеров.
— Ну, это совсем не то, нужно идти к большевикам, они ведь вся сила.
На другой день мы вместе отправились и заявили товарищу в кожаной куртке с маузером, что штабс-капитан Якулов не платит за работу маляру Татлину.
Товарищ в кожаной куртке написал повестку:
“Штабс-капитану Якулову явиться в десять часов в комитет”.
В десять часов все явились.
Человек в кожаной куртке встал, поправил кобуру от маузера и сказал: “Что же это вы, гражданин штабс-капитан, не платите рабочим малярам?”
Якулов страшно возмутился, стал говорить, что он такой же художник, как и эти маляры, но вид у него — в бриджах, в крагах, во френче, усики, стек — говорил не в его пользу. У нас с Татлиным вид действительно был малярный.
И человек в кожаной куртке приказал заплатить немедленно. Деньги Татлин получил на другой день.
Якулов долго не мог этого забыть.
1918 год
Как-то с Татлиным мы зашли в “Кафе поэтов” в Настасьинском переулке. Оно ещё отделывалось и расписывалось, каждому художнику предоставлялась стена, и он что хотел, то и писал на ней. При нас расписывал Д.Д. Бурлюк и говорил, что стена Татлина ждёт… Но Татлин отказался расписывать. Мне тоже предложили, но Татлин шепнул мне: “Не нужно”, и я тоже отказался, а почему “не нужно”, я до сих пор не знаю.
Тут же прогуливались Петровский и Владимир Гольдшмидт — “футурист жизни”, бездарный поэт, но красивый парень, обладающий огромной физической силой. Он ходил в голубой какой-то рубашке с открытым воротником, с золотым кольцом на голове, что-то в духе старых эллинов или борцов.
Он куда-то вскоре пропал, и я давно о нём ничего не слышал.
Нужно было посмотреть, что сделали в “Кафе поэтов”, и мы трое пошли: Татлин, я и Степанова.
Все столики были заняты, но для Татлина нас где-то устроили.
Публика разная: богема, журналисты, спекулянты и ещё не удравшие буржуи.
Шумно, пёстро, дымно.
Выступало много поэтов, в том числе и В.В. Маяковский. Увидав Татлина, он с эстрады заявил: “У нас в гостях сегодня автор железобетонных контррельефов, гениальный художник-футурист Владимир Евграфович Татлин!”
Публика зааплодировала.
Татлин встал и поклонился, а я от неожиданности покраснел. Приняв это за обиду, Татлин, сев, шепнул мне: “Они тебя ещё не знают, а поэтому и не назвали фамилии”.
Помнится, что это была лка под Новый год и на ёлке висели, кроме всего прочего, книги и рисунки.
Маяковский раздавал подарки с ёлки, в том числе, помню, бросил книжку “Облако в штанах” с какой-то надписью.
Мне очень хотелось получить, но увы, мне она не досталась.
Профсоюз устроил выставку в помещении теперешнего музея имени Пушкина, но через несколько дней после открытия Левая федерация вышла из союза из-за нарушения профсоюзом прав федерации и сняла с выставки картины своих членов.
Мы начали самостоятельную общественную жизнь в новом помещении — Кречетниковском переулке.
Начал функционировать клуб художников-живописцев Левой федерации профсоюза.
Выпустили афишу, что клуб устраивает выставки беспрерывно в порядке записи всех членов Левой федерации. Выставки пользовались популярностью и посещались очень охотно.
На моей персональной выставке, помню, было много народу, среди них были Эренбург, Алексей Толстой, С. Щукин, Тугендхольд и другие.
Маяковский тоже числился членом клуба, но он был больше в Ленинграде и не знаю, был ли он на выставках или нет.
Приехали в Москву Пунин, Штеренберг, Маяковский, Брик и во главе с Татлиным организовали при Наркомпросе Отдел Изобразительных Искусств и Художественную коллегию.
Татлин, Малевич, Моргунов, Розанова, Родченко, Удальцова и другие начали создавать советское искусство.
Это теперь многими замалчивается.
Многие не помнят, другим не выгодно вспоминать, но мне кажется, это необходимо помнить.
Советское искусство начали создавать мы, а не иные, которые этого не помнят. А мы помним, как они ещё дописывали в это время портреты царского времени и пришли в советское искусство лет на десять позже нас.
Этого не следует забывать, мы поверили большевикам в 1917 году, а они немного позже — в 1927 году. Нас было мало, но мы были “зачинщиками новой веры”.
…Дрались
некогда
греков триста
сразу с войском персидским всем.
Так и мы.
Но нас,
футуристов,
Нас всего — быть может — семь…
Маяковский