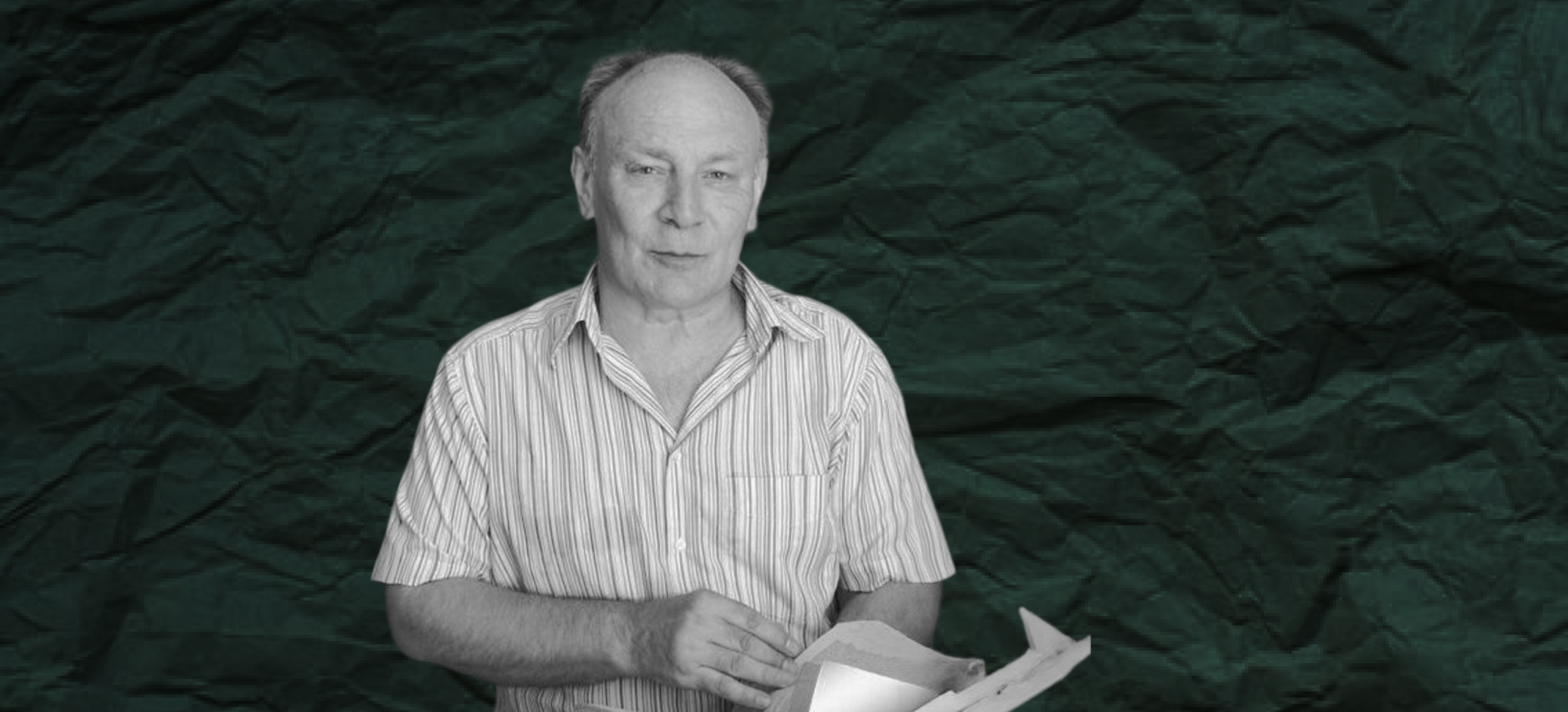Мы встретились с Эрихом в ноябре в Ереване, где в книжном магазине Common Ground проходил поэтический вечер. Из разных уголков земли в Ереван съехались поэты Михаил Айзенберг, Сергей Гандлевский, Юлий Гуголев, Евгения Лавут и Борис Лейви на вечер, который организовали Дмитрий Борисов, Филипп Дзядко и Григорий Карельский.
С Эрихом мы сели за столик, взяли кофе, стали говорить о России девяностых, поэзии, оккупированной Австрии после Второй мировой, о немецком искусстве в шестидесятые. Так я расспрашивал его часа два, потом встретились на следующий день, ещё не меньше часа записей.
Как живые иллюстрации перед нами выплывали поэты. Эрих говорит: “Он дружил с Гандлевским”, — и тут по ступенькам в книжных входит Сергей Гандлевский в сванской шапке. Потом: “Как Гуголев на это сказал…”, — и тут подходит Юлий Гуголев и зовёт Эриха на обед. Я спрашиваю, тяжело ли было переводить Айзенберга, а сам поэт в эту секунду стоит у входа и курит.
До интервью вы сказали, что были в Ереване в восемьдесят первом году. Как вы здесь оказались тогда?
Моя партнёрша — переводчица, она знала русский язык, и мы просто поехали через австрийско-советское туристическое агентство, такая официальная организация: Киев, Ереван, Сочи, Москва. И это было в каком-то смысле забавно, поскольку Австрия прямо на границе с “железным занавесом”, и за этим занавесом вообще практически ничего не было. Это была закрытая территория. И, конечно, в какой-то момент хотелось взглянуть, что там происходит.
Я помню, что это было именно в восемьдесят первом году во время Пасхи православной, я смотрел как все покупают свои два или три сорта колбасы. Какие-то военные, которые получили докторскую, завернули в газетную бумагу. И это выглядело, как раньше у нас в деревне. Вроде бы, нормально для Москвы, но я всё время думал, что у нас безработные лучше живут, чем нормальные люди в Советском Союзе. Вот это меня тогда занимало.
Это групповый туризм: у нас был экскурсовод, молодой студент и, наверное, человек, который потом должен был писать, “о чём эти иностранцы говорили”. Остальные ничего не говорили, я с ним всё время хотел обсуждать Достоевского, а экскурсовод уходил от этого разговора. В группе были и какие-то мои дальние родственники случайно, они привезли джинсы и торговали на чёрном рынке там. Вот такая история. Я приехал в Москву, собственно, без знания русского языка.
Это в 1981 году. А потом вы уехали и вернулись? Или как это было?
Восемьдесят первый, потом восемьдесят седьмой или восьмой. Но один раз на десять дней, потом на две недели, по-моему. И в девяностом году уже на девять лет практически.
Вы постоянно жили в Москве? Расскажете, как это было?
Пять лет я почти постоянно жил. Дело в том, что в девяностом году я просто понял, что тут делать. Это было чрезвычайно интересно: практически через неделю или две через каких-то знакомых, которые у моей жены уже были, познакомился с Анатолием Ахутиным, философом, а в конце девяностого года, я помню, поехал в Тбилиси. Мы договорились с Мерабом Мамардашвили на интервью, но он внезапно скончался.
Я жил в Москве, но без русского языка. И совсем не знал, что делать дальше. И тут Таня Старостина сказала: “Слушай, у меня отец служил в Австрии после войны, он хочет с тобой поговорить”. Из этого возникла такая странная идея заниматься историей войны. В 1995 году я сделал книгу, которая называется “Русские в Вене — освобождение Австрии”. Занимался ей три года.
Я не историк по образованию. А это была политическая история Австрии, что далеко от моих обычных тем, потому что я — литературный критик. Литературной критикой занимался до того, и после, и сейчас. Но я стал работать над этой книгой, встречался с разными советскими людьми, которые служили в Австрии: из Кыргызстана, Риги, Москвы, Мурманска. Нашёл очень много ветеранов войны. И в том числе фотографов, которые тогда, в сорок пятом году, при освобождении, фотографировали. Один из них — Евгений Халдей, который сфотографировал русского солдата, установившего знамя над Рейхстагом. Он до того, в апреле сорок пятого года, был в Вене, вернулся в Москву и поехал в Берлин.
Это меня интересовало, потому что у нас был совсем другой образ. Например, это никто в Австрии, как и в Германии, не называл “освобождением”. У нас говорили про грабёж населения и про чекистов, которые арестовывали людей, увозили в советский ГУЛАГ или расстреливали. Об этом говорили. Если ты спросишь немцев или австрийцев, особенно на востоке Австрии, где советские войска стояли, там такой двойственный образ: да нет, они очень любили детей, давали шоколад или что-то, что у них было, но они были страшные, но они были добрые. Вот такое двойственное, непонятное. И чтобы более реальную картину нарисовать, я искал ветеранов.
Я разговаривал с разными людьми, среди них были и известные. Георгий Лесскис, очень образованный человек, писал книги про Булгакова, Пушкина, рассказывал мне, как читал солдатам газетные статьи Эренбурга, потому что не все могли читать сами. По телефону разговаривал с Сергеем Михалковым.
Или был такой “примкнувший к ним Шепилов”, это уже глубокая советская история, когда он участвовал в путче против Хрущёва, его назвали “примкнувший к ним Шепилов”. Такой человек, я его спрашивал: “Помните Вену?” — “Да, я её взял”, — сказал он.
А потом я стал заниматься людьми, которые были ближе к моим настоящим интересам. Был, например, экспериментальный поэт Ян Сатуновский. У него есть такие монументальные слова: “И город — ещё не горел”. Это про Франкфурт-на-Одере. Сатуновский описывает, как стоят русские солдаты перед наступлением, а потом Франкфурт-на-Одере был практически полностью уничтожен. В его стихотворении, конечно, гораздо больше правды, чем у Жукова, или каких-то историков, или свидетелей.
В 1995 году я познакомился с философом Ахутиным. Он был учеником московского философа Владимира Соломоновича Библера, который тоже вошёл в мои книги, хотя воевал в Германии, он дошёл до Берлина. Мы с Библером говорили о том, какое было отношение у советских солдат к немцам. И он ответил сталинской фразой: “Гитлеры приходят и уходят, немецкий народ остаётся. Меня больше интересовало найти книги Гегеля или Гердера или что-то в этом роде”. Библер — участник войны, притом в “Смерше” был переводчиком чекистов. Но он сказал мне: “Несмотря на то, что мы были правы, мы, конечно, убили. И в этом и наша вина”. Вот это главный вопрос. Я весной поеду в Киев, где встречусь с Ахутином. Не знаю, как он сейчас об этом говорит. Конечно, украинцы правы, но будет ли ученик Библера говорить о том, что когда украинские солдаты убивают русских солдат, они тоже испытывают чувство вины? Эта тема Второй мировой войны, на мой взгляд, чрезвычайно современна. Во всяком случае, все войны задают одни и те же вопросы.
Так вот, я стал общаться с философами, и, плохо понимая грамматику, переводить разные тексты. Первой книгой я перевёл “Философию одного переулка” Пятигорского. И сидел долго-долго-долго, потому что каждое третье слово мне нужно было смотреть в словаре. Это длилось до 1999 года. Тогда я уже начал организовывать какие-то мероприятия в Вене, поэты из Москвы приезжали в Австрию, и наоборот. Тогда, конечно, интерес к русским был чрезвычайно высокий.
Меня мои друзья в Австрии спрашивали, не надоела ли ещё эта Россия? Я отвечал, ну, нет, она очень большая. Я ездил по стране, для радио делал всякие передачи. Самая смешная была, по-моему, была, когда я на Транссибе из Красноярска в Новосибирск ехал. Ночью сидел с магнитофоном в плацкартном вагоне и записывал храп людей, а утром подошёл к машинисту, сказал, что делаю репортаж для австрийского радио и включил магнитофон. И он говорит: “Приезжайте в Сибирь”. Делал много репортажей всякого рода.
Немножко ещё хочется поспрашивать про саму Австрию. Ведь многие эмигранты третьей волны уезжали из СССР через Вену. Оставило ли это какой-то след?
Да, в основном через Австрию, значительная часть ещё через Румынию. Но через Австрию многие, и у всех были воспоминания про лагерь беженцев в Трайскирхене: Лосев (я, к сожалению, только один раз встретился с ним, он дружил с Гандлевским), Маша Гессен, Пятигорский (который, правда, говорил, его сразу вызвали црушники на допрос) и Бродский, конечно, тоже. Но они все уехали дальше, в Австрии из известных людей никто не оставался. Это было отчасти связано с особым статусом Австрии как нейтральной страны.
Это эмигранты не хотели оставаться? или власти Австрии не хотели, чтобы те оставались?
Нет, это никому из эмигрантов не было интересно, потому что все, насколько я понимаю, хотели в Америку. Там же значительная часть тех, кто приехал по израильской визе даже, не хотела ехать в Израиль.
Я недавно разговаривал с одним австрийским писателем. И вначале они полгода с семьёй жили в Австрии, потом в Израиле, в Америке, где-то в Европе ещё, а, в конце концов, вернулись в Австрию, и он там живёт, довольно известный человек в узких кругах, пишет по-немецки. Но он из редких. Есть другая молодая писательница, родилась в Ленинграде, но тоже живёт в Австрии и пишет по-немецки.
Намного больше людей, которые в девяностые уехали в Германию. Там уже целая когорта молодых писателей из Баку, из Одессы, из чёрт знает откуда. Интересно, кто-то из них интересен. В Германии очень популярна такая тема иностранцев, которые приходят и извне смотрят на немецкое общество.
Кого вам было труднее всего переводить из поэтов? Перед интервью мы говорили с вами о стихах Айзенберга, мне кажется, что его перевести на другой язык невероятно сложно.
Его я, конечно, с помощью моей партнёрши переводил. Но самый сложный вопрос, это, естественно, вопрос рифмы, поскольку ни Готфрид Бенн, ни Рильке не рифмуют. И медленно умерла бы эта форма, если бы не было Пауля Целана, который с пафосом русской литературы вошёл в немецкую. И не только потому, что переводил Мандельштама, Есенина, Блока. Но это тоже не в строгом смысле рифмованные стихи, поэтому идут вечные дискуссии на эту тему. Самый сложный перевод — был совсем другой, когда я Прилепина переводил.
Тёмная страница вашей биографии?
Ну, как Гуголев на это сказал, кто же без греха.
А как так получилось, что вы стали его переводить?
Это сложная история. Был какой-то конкурс одной австрийской институции на перевод русской прозы. Я позвал двух людей, и мы обсуждали, какого прозаика переводить. Было два кандидата: Иличевский и Прилепин. Это было лет десять–пятнадцать тому назад. И тогда Прилепин был очень популярной фигурой в Москве. Ему покровительствовали многие, в том числе либеральные люди. Я, конечно, понял, что это сомнительная фигура. Я с ним не был знаком, просто стал переводиться этот роман “Санькя”. И я помню точно, как в один прекрасный день российское издательство разговаривало по телефону с издателем в Германии, в Берлине, и они сказали, что скоро будет, через две–три недели, книжка уже в типографии. Потом я включил компьютер и читаю “Письмо Сталину” Прилепина. Но тем не менее это было не то же, что сейчас. Многие тогда всё равно говорили: “Нет, это такой тип современной литературы”.
Хотя в принципе, когда читаешь эту “Санькя”, понимаешь, почему русские воюют в Украине.
И я тогда познакомился с Прилепиным, у нас никакой особенной дружбы не было, но один раз мы две недели путешествовали вместе. Я взялся ещё переводить “Обитель”. И это меня по-настоящему интересовало — вопрос, если по-русски можно сказать, историзации. Об этом думали и у нас, начиная с Целана, как говорить про ужасы тоталитаризма — нацизма или советского строя — через поколение или через два. Это называется Historisierung der Geschichte. И тут я узнал, что Прилепин сейчас пишет такой роман. Я собрал опять мнения разных людей. Гриша Чхартишвили, Акунин, например, написал: “Ну, вы понимаете, я его ненавижу. Вы знаете, что я думаю о Прилепине, но роман хороший, прочитайте”. Чтобы себя оправдать, я опять искал авторитетные мнения. И стал переводить. Перевёл примерно сто пятьдесят страниц. Но в какой-то момент всё-таки бросил, принял решение: нет, я дальше не буду переводить. Интеллектуально интересно, как современный русский литератор пишет про ГУЛАГ, даже в виде такого приключенческого романа, но мне это очень противно.
Для меня это была довольно большая потеря денег, потому что я очень хороший контракт с швейцарским издателем заключил и отдал деньги. И так мой роман с Прилепиным кончился.
Но я знаю, что русские о нём говорят сейчас, знаю, что говорит Леонид Юзефович или его дочь Галина Юзефович. Сомневаюсь, что он действительно русский писатель номер один. Но это такие конкурсы красоты, которые вообще в литературе бессмысленны, но которые повсюду есть. В этом смысле Россия не сильно отличается.
Когда вы последний раз были в России?
Как раз накануне большой войны, в январе двадцать второго года. Я был на Сахалине, в Южно-Сахалинске.
А в Москве?
Это было очень смешно. Я через Москву летел туда. Мирная Москва, очень мирная. И я тогда готовил материал для радиопередачи. Это после Крыма и Донбасса, и мне уже надоело, что есть только Путин, Путин, Путин, Pussy Riot, Pussy Riot, Навальный, Навальный. Я хотел сделать двухчасовую передачу “Россия без Путина”. Даже, наверное, где-то слышал эту формулировку, но для меня это не была формулировка Навального. И сделал записи в Сахалине, другую девушку из Петербурга записал — из разных точек. Уже договорились с людьми, что в апреле двадцать второго года мы приедем с коллегами, например, поговорить с режиссёром Крымовым, который в ГИТИСе работал. И я за две недели до двадцать четвёртого февраля уехал. Потом мы, конечно, отменили план.
Но поскольку передача уже была в программе, я сказал, что остался только Путин без России.
Всё-таки через год я сделал двухчасовую передачу, но только уже с эмигрантами. Как раз с Филиппом [Дзядко], с Кириллом Роговым, с Морозовым, с Машей Степановой, с Мариной Давыдовой — о культуре при нынешних условиях говорили. Это была действительно очень важная передача, потому что, как и сейчас, в прошлом году вообще никто не говорил о России. Она опять стала такой, с чего я начал, когда рос в шестидесятые и семидесятые, — “Железный занавес”, непонятно, что там внутри происходит. Только немного другая обстановка, конечно.
Ещё недавно вы организовывали “Literatur im Herbst” в Вене. Можете про это рассказать?
Это такой литературный клуб, самый важный в Вене, называется “Alte Schmiede”, который тридцать или сорок лет существует. Я и раньше делал в нём какие-то мероприятия, когда я был в редакции журнала “Wespennest”, несколько раз делался специальный номер про русскую литературу — “Из Москвы”, “После России” и что-то ещё, я уже не помню, — начиная с девяносто восьмого–девятого года. Приезжали Седакова, Бибихин даже был, Айги, Гандлевский, Айзенберг, Кибиров, Рубинштейн, Пригов, Пятигорский — те, кого я переводил. И то, что мы сейчас делаем в литературном клубе в Вене — это продолжение, называется “Das andere Russland” (“Другая Россия” — прим. ред.). Это связано с той историей на радио, о которой я говорил. Я не хотел, чтобы только политологи говорили о России, хотя Кирилл Рогов тоже филолог по образованию, но он сам сказал, нет, пусть они говорят о литературе.
Это технически, конечно, не совсем просто и достаточно дорого, когда человек из Москвы летит в Стамбул, а оттуда — в Вену. И то же с визой, поскольку австрийцы не выдадут визу сейчас уже. Но мы всё равно смогли организовать такое и в прошлом году, и в этом году. В следующем году это не будет такая большая история, но что-то будет — “Другая Россия 3: до конца жизни”. (Смеётся)