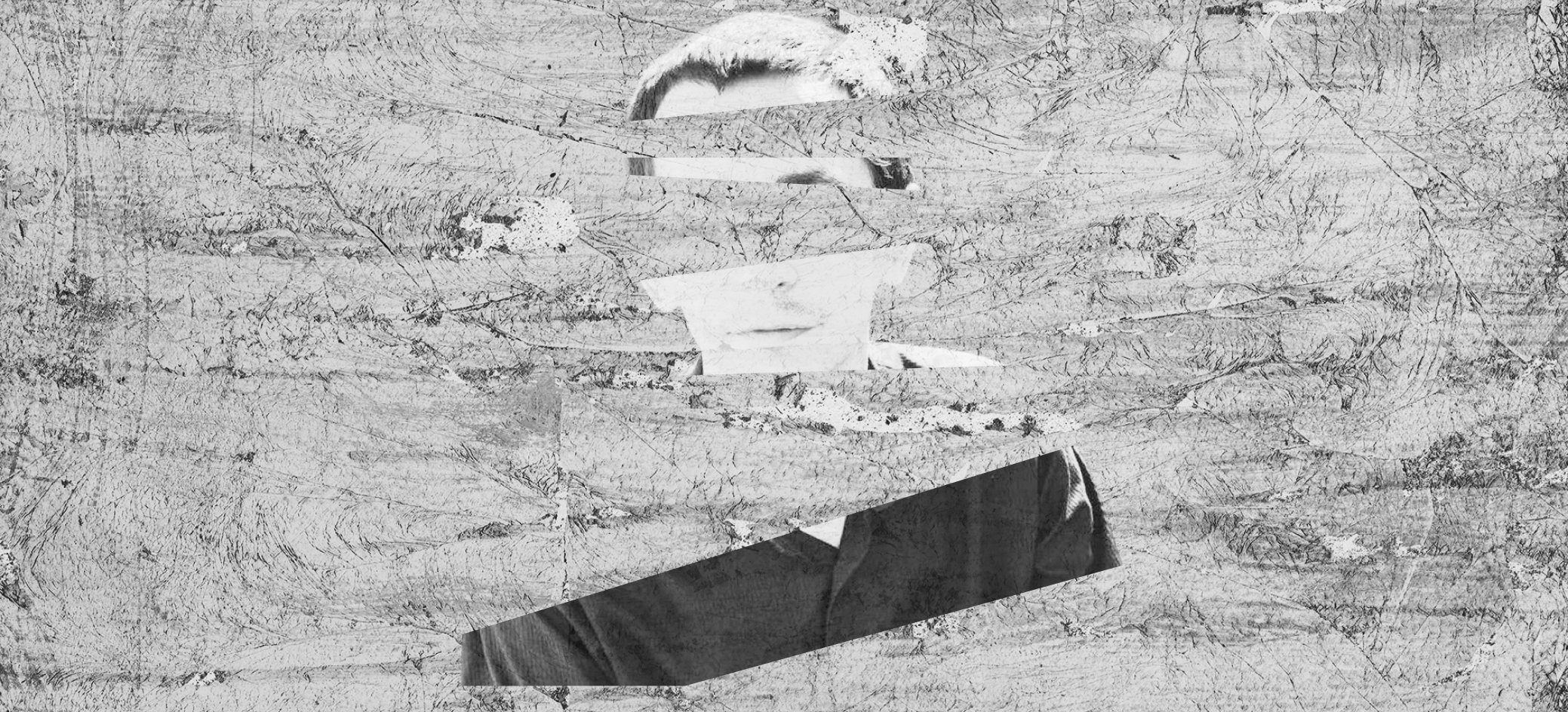Год назад в СИЗО Биробиджана умер пианист, писатель и антивоенный активист Павел Кушнир. Ему было неполных сорок лет, из которых он менее года проработал солистом биробиджанской филармонии. До этого жил в Кургане, ещё раньше в Курске, а сразу по окончании московской консерватории — в Екатеринбурге. Родившийся в Тамбове в семье музыкантов и закончивший там музыкальное училище, Кушнир не был, как часто пишут в биографиях, представителем «музыкальной династии». В гробу он видал эти династии. Достаточно сказать, что его мать — музыковед Ирина Левина — давно не общалась с сыном и отказалась от экспертизы, которую предлагали инициировать правозащитники. Антивоенная позиция сына не была ей близка.
Кушнир написал несколько книг. Среди них — изданный в 2014 году в Дюссельдорфе и переизданный после его смерти роман-коллаж «Русская нарезка», романы «Ноэль» и «Девятнадцатая весна», которые ещё ждут публикации. Дневник, который Кушнир вёл с сентября по декабрь 2022 года и затем отправил своей берлинской подруге Ольге Шкрыгуновой, спустя два с половиной года увидел свет в книжной серии «Медузы». Впереди издание других текстов — с ними сейчас ведётся подготовительная работа. Кушнир при жизни не занимался продвижением своих литературных опытов. Он писал разным известным людям, не рассчитывая на выгоду и даже не надеясь на ответ — лишь с целью поддержать чью-то позицию. Он был принципиальным одиночкой, для которого было неприемлемо покорное молчание, с которым в норме относится к войне население России.
Ян Левченко задал несколько вопросов редактору и комментатору «Биробиджанского дневника» Дмитрию Волчеку. Выход этого интервью приурочен к одной из наиболее знаменательных и печальных годовщин новейшей истории России, которая теперь отсчитывается от преступной войны, которую она продолжает вести, не считаясь ни с чем.
— Почему вы занялись этой книгой и почему этой книгой занялись именно вы?
— Я не был знаком с Павлом Кушниром. Когда он погиб, я скачал его роман «Русская нарезка». Начал читать и сразу же понял, что Кушнир прекрасно знал книги Уильяма Берроуза и Кэти Акер, которые я переводил и издавал — там очевидны переклички. Я решил проверить почтовый ящик моего издательства и обнаружил письмо, полученное в 2016 году. Павел писал, что он солист Курской филармонии и хотел бы переводить Акер и Федермана [1]. Никаких текстов к письму приложено не было, и оно осталось без ответа, как и сотни других писем от незнакомцев. Я и предположить не мог, что это то самое письмо, которого я ждал всю жизнь, а «солист Курской филармонии» — гениальный писатель, книги которого я мог бы издавать. Ну и просто близкий мне по взглядам и увлечениям человек, с которым хотелось бы дружить, пусть на расстоянии.
«Нарезка» — замечательный роман, одна из лучших русских книг XXI века. Я решил прочитать все сочинения Кушнира, написал его подруге Ольге Шкрыгуновой, она передала мне рукопись «Дневника», я её подготовил к печати, написал предисловие и комментарии, издательство «Медуза» согласилось выпустить книгу, и в конце июня она вышла. Впереди ещё как минимум четыре тома <сочинений Кушнира — Я. Л.>, один уже готов к печати и в этом году выйдет в издательстве Freedom Letters. Кушнир писал от руки, рукописи хранятся в разных местах, что-то пропало при аресте, всё это не так просто собрать, так что впереди много работы.
— На фоне атрофии антивоенного и любого антивластного подполья в РФ Павел Кушнир выбрал традицию юродства, причём суицидального. Главное послание его дневника и состоит в том, что лучше не жить, если не удалось уехать из РФ?
— Нет, мне не близка эта интерпретация. Если говорить о политическом послании, то оно состоит в том, что нужно бороться с диктатурой, пусть даже и ценой собственной жизни. Лучше погибнуть, чем умереть при фашизме — романтический призыв, который не найдёт отклика в стране рабов. Павел был героем и погиб как герой.
— Кушнир — символ ненужности при жизни. Вы упоминаете в предисловии, что Мария Алёхина призналась, что прочла несколько десятков писем Кушнира только после его смерти. Такая глухота — причём тотальная — возмутительна, нормальна, хотя бы объяснима? Значит ли она что-то?
— У него было много слушателей. Он постоянно выступал. Да, не в Карнеги-холле, а в Биробиджане или Тамбове, но его это не заботило, он мог играть Скрябина на разбитом рояле в малюсеньком посёлке на краю земли. А Алёхиной и Ольге Мисик он писал, не рассчитывая на ответ. Он восхищался их смелостью и хотел им об этом сообщить — ну как на сцену бросают букет цветов. При этом он вовсе не был затворником, у него было много друзей. И образ одинокого, никому не нужного человека, пишущего письма знаменитостям, крайне далёк от истины. В этом году выйдет документальный фильм Сергея Ерженкова о Кушнире, там собраны рассказы его знакомых — все говорят о нём с восхищением и нежностью.
— Один из важных мотивов биографии Кушнира — его равнодушие к любым формам продвижения себя на рынке. Эта позиция очень понятна — самопиар отвратителен, но не имеет альтернатив. Неудачники сходят с дистанции и часто умирают в безвестности. Смерть Кушнира лишь подтвердила работу этого механизма?
— Да, его друзья говорят, что он мог бы сделать блестящую карьеру как пианист, но ничего ради этого не предпринимал. «Русская нарезка» вышла в Дюссельдорфе в крошечном издательстве, и он не пытался никак её «продвигать» или заводить знакомства в литературной среде. Вы говорите, что он сошёл с дистанции. Но он просто не участвовал в забеге, это совсем другое дело.
Среди музыкантов и писателей бывают люди, лишённые тщеславия. Редко, но бывают. Теперь его имя знают миллионы — о нём написала New York Times, знаменитые музыканты дают концерты его памяти, учреждена стипендия в его честь. Но разве это главное? Важнее услышать то, что он хотел нам сказать — о музыке, о литературе, о политике, о человеческом достоинстве.
— В дневнике Кушнир не раз демонстративно нападает на свою семью и семью как таковую. Как вы могли бы прокомментировать эту нетерпимость?
— У него были сложные отношения с родителями, и об этом он говорит в дневнике. Он считал традиционную семью источником фашизма. В этой точке зрения нет ничего сумасбродного — как правило, диктаторские режимы поощряют культ «традиционных ценностей». Сейчас мы это наблюдаем в РФ. Павел Кушнир был гетеросексуалом, но у него вызывала отвращение государственная кампания против ЛГБТ.
— Примечательна жесткость Кушнира в адрес Украины — в его глазах у неё нет заведомого алиби вследствие нападения РФ. С чем, на ваш взгляд, связана такая неожиданная позиция?
— Такой вывод можно сделать разве что из одного мимолётного замечания в дневнике. Кушнир размышляет о том, что нельзя на насилие отвечать внеадресным насилием — устраивать теракты, в которых могут погибнуть невинные люди. Это не какая-то принципиальная антиукраинская позиция, просто размышления пацифиста, для которого человеческая жизнь дороже всего.
— В дневнике достаточно часто встречается эпитет «ёбаный» — «ёбаный Путин», «ёбаная война» и т. д. Кушнир признаётся, что ему тяжело далось сочетание «ёбаный отец». Кажется, это определение значит для автора нечто большее, чем ординарное матерное клише. Или я придумываю?
— Думаю, это просто аналог прилагательного fucking, постоянно звучащее в англоязычных фильмах, которые он смотрел. У него был свой словарь. Например, он не любил слово «девушка» и почти всегда писал «гёрел» (то есть girl). Почему — не имею понятия. Возможно, слово, возникшее в какой-нибудь компании и понравившееся ему.
— С середины второй части а может, раньше дневник начинает напоминать автоматическое письмо. Читать его нетрудно, хотя под конец всё меньше регистрации действий и всё больше бессвязного речевого клокотания. Или там всё продумано, и это лишь испытание мещанского читателя?
— Я не нахожу бессвязности. Кушнир был музыкантом-виртуозом, и повествование развивается как мелодия. Он использовал повесть Эммануила Казакевича «Звезда» (1947) и переработал текст, внедряя фрагменты в свой рассказ. Постепенно две «музыкальные» линии — история партизанского отряда, придуманного Казакевичем, и дневник городского партизана, то есть самого Кушнира, — переплетаются, а затем сливаются окончательно в день Рождества. Звезда, пароль партизан, становится Вифлеемской звездой.
— Изданный ранее, но остававшийся неизвестным до гибели автора роман «Русская нарезка» определялся им самим как пример работы плагиаризма. В чём состоит этот приём?
— «Метод нарезки» был разработан Брайоном Гайсиным и Уильямом Берроузом, он подразумевает использование отрывков из чужих текстов, которые превращаются в новый текст. Кэти Акер вставляла целые блоки из Диккенса, Пьера Гийота или Жоржа Батая в свои романы, заимствуя их персонажей или авторский голос.
В «Русской нарезке» Кушнир использует советские романы о войне — «В окопах Сталинграда», «Живые и мёртвые» и т. п., создавая из них своё повествование. В «Биробиджанском дневнике» он препарирует таким образом только одну книгу Казакевича. У Кушнира есть роман Noёl, написанный на 70 языках и с использованием десятков книг [2] — от Гомера до Габриэль Витткоп [3]. Кушнир говорил, что эта книга никогда не будет издана, но я надеюсь, что мне удастся подготовить её к печати.
[1] Кэти Акер (Cathy Acker, 1947–1997) — панк-поэтесса, авторка постмодернистских романов, одна из наиболее ярких феминисток в американской литературе конца XX века. Её книги-коллажи, видимо, вдохновляли Павла Кушнира на создание близких по духу произведений, её манеру не однажды называли термином playgiarism (play + plagiarism, то есть «игра с плагиатом»), который придумал другой выдающийся литературный экспериментатор Рэймонд Федерман (Raymond Federman, 1928–2009). Родившийся во Франции и переживший, в отличие от своих родителей, Холокост, этот профессиональный пловец, защитивший в США диссертацию по Сэмюэлю Беккету, писал экспериментальные романы и академические книги, в которых исследовал литературное направление «сверхвымысла» (surfiction), которому сам же и принадлежал [Прим. ред].
[2] Трудно не вспомнить в этой связи Finnegans Wake (1923–1939) — легендарный литературный опыт Джеймса Джойса, при написании которого использовались те же 70 языков для составления каламбуров типа See Vast a Pool! (игнорирование словоразделов даёт в данном случае слово Sevastopol) и тому подобное. Не рассчитанный на прямое понимание, бурлящий цитатами 600-страничный опус Джойса сложно определить как «роман» или какую-либо другую литературную форму, скорее это образец потока самопорождения литературы [Прим. ред].
[3] Габриэль Витткоп (Gabrielle Wittkop, 1920–2002) — франко-немецкая писательница и эссеистка, чья самая знаменитая повесть «Некрофил» (1972) вышла в русском переводе («Митин журнал», 2003) раньше, чем в английском (2011). В 2005 году под обложкой с названием «Некрофил» вышли также роман «Убийство по-венециански» и рассказы из сборника «Сон разума», после чего издательский проект Дмитрия Волчека Kolonna Publications до 2020 года выпустил практически всю прозу Витткоп. См. сайт издательства [Прим. ред.].
Демагог — журнал о независимой культуре.
Мы берём интервью у андеграундных режиссёров, выпускаем рецензии на главные книги независимых издательств, рассказываем о новостях культуры, репрессиях, цензуре и релизах, публикуем аналитические материалы о прошлом, настоящем и будущем.
Вы можете помочь рассказывать больше и чаще настоящей живой культуре, подключив ежемесячное пожертвование на Boosty или Patreon. Помните, что Демагог — свободный журнал для свободных людей. Мы зависим только от вас!