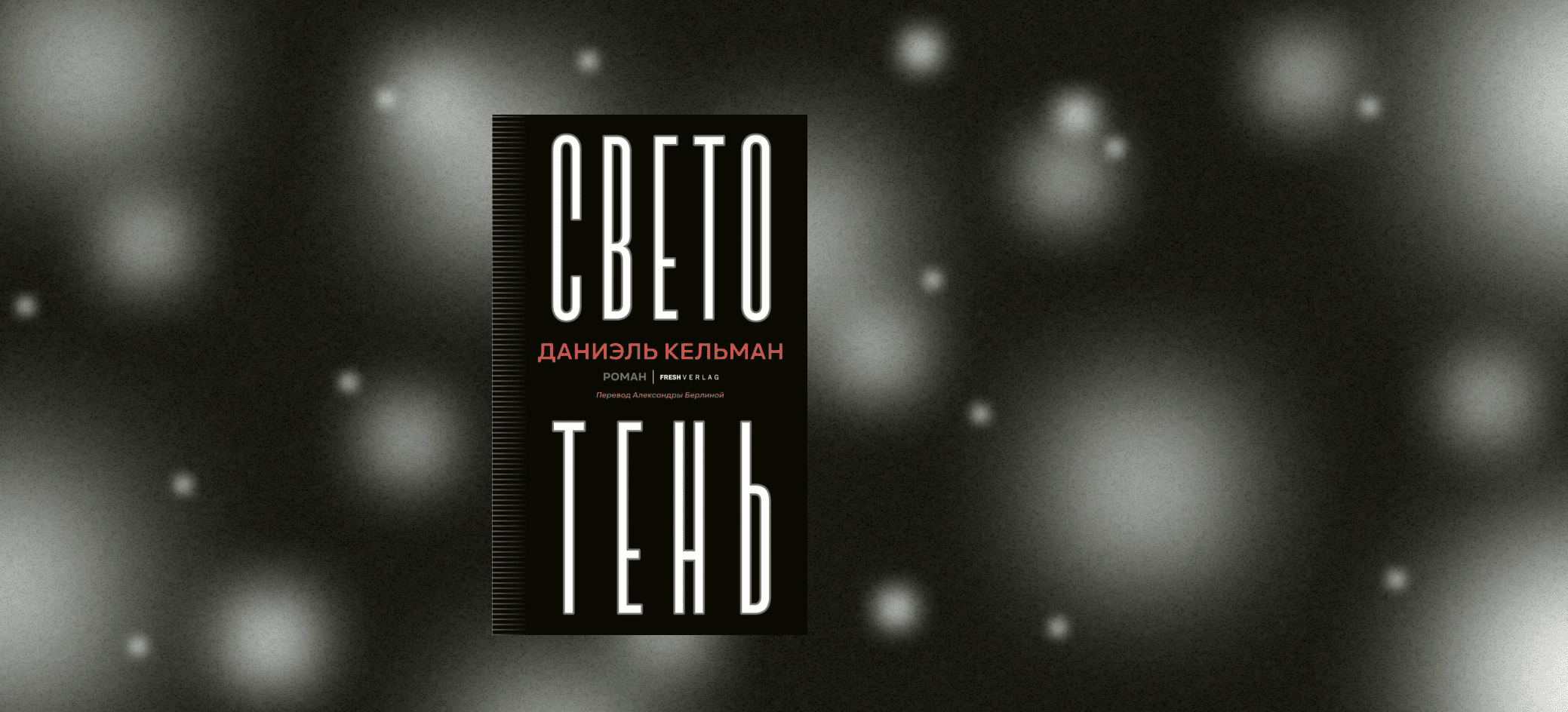Свет
«Светотень» Даниэля Кельмана — полудокументальный роман о великом австрийском режиссёре Георге Вильгельме Пабсте, который эмигрировал со своей семьёй из нацистской Германии в 1933 году, не смог прижиться во Франции и США и через несколько лет вернулся обратно, чтобы навестить больную мать. По ряду причин, не последней из которых было начало Второй мировой войны, семейство Пабстов не смогло выехать из страны и оказалось запертым в «золотой клетке». Несмотря на то, что в те годы режиссёр смог снять свои новые шедевры — «Комедиантов» и «Парацельса», — жизнь Георга, его жены Труди и сына Якоба медленно ломалась из-за их близости ко злу, всё больших компромиссов и молчаливого участия в историческом кошмаре.
Как бы того ни требовала тема, роман Кельмана не навязывает читателю однозначной морали. В нём нет толстовского рассказчика-резонёра, который бы прямо объяснял читателю, что Пабсту не надо было возвращаться (или, во всяком случае, делать это с женой и сыном), что с Третьим рейхом сотрудничать плохо и что надо непротивляться злу насилием.
Техника рассказчика Кельмана гораздо сложнее. Как и в других своих уже канонических текстах — Die Vermessung der Welt (русский перевод «Измеряя мир» вышел в 2009 году), Ruhm (роман «Слава» по-русски вышел в 2009 году), — он дробит повествование на короткие и разделённые по времени и месту главки, которые косвенно взаимодействуют друг с другом и рассказываются разными персонажами. Такое многоголосие лучше всего передаёт моральную сложность ситуации, в которую попали герои.
Каждая глава рассказывается с искажённой и ненадёжной позиции: например, в первой и последней — повествует теряющий память склеротик, бывший ассистент Пабста, доживающий свои дни в австрийском пансионате для престарелых и хранящий под гнётом своего стыда страшную тайну. В следующих главах об эмиграции в США рассказ идёт от лица плохо понимающего английский Пабста, что создаёт ощущение отчуждённости, неродной культуры и бездушного места. Глава о поездке семьи в Третий рейх рассказана от лица Якоба Пабста, сына режиссёра, детский взгляд позволяет читателю так же остранённо увидеть придуманные людьми границы, блокпосты, идеологии, насилия и страхи.
Почти все остальные истории, фрагменты и ощущения передаются читателю через ненадёжного рассказчика, который что-то не знает, что-то скрывает или находится в состоянии аффекта. Порой это сам Пабст, который пребывает в апатии от воспоминаний, приходит в себя после сотрясения мозга, с похмелья или испытывает демоническое воздействие разговора с Геббельсом. Другой рассказчицей с искажённой перспективой является его жена Труди Пабст, впавшая в депрессию от фальшивости жизни при диктатуре, от нелюбви и от вечного отсутствия Пабста.
Весь роман Кельмана построен на остранении. В лучших традициях впервые описавшего этот приём Виктора Шкловского Даниэль Кельман создаёт особый мир неоднозначности, полутонов или «игры света» (дословный перевод немецкого названия романа — Lichtspiel). Для читателя стирается грань между трезвостью и опьянением, воспоминанием и действительностью, явью и вымыслом (часть персонажей романа выдумана, часть — реальна и прописана со всей точностью) — и, наконец, реальностью и искусством.
В неудобные моменты Пабст воспринимает свою жизнь как создаваемый им в реальном времени фильм. Например, так он видит нацистский Берлин с кабинетами и коридорами министерства пропаганды, где перестаёт работать геометрия:
Через министерство шли долго. Здание изнутри было вроде бы больше, чем снаружи; к удивлению Пабста, это наблюдение показалось ему совершенно разумным. Целую вечность шли по коридору прямо, потом как минимум так же долго и по такому же прямому коридору налево. Человек в форме, встретивший его у автомобиля, шёл вперёд, не оборачиваясь. Мужчины в штатском, мужчины в форме и изредка даже женщины шли им навстречу, почти все с папками в руках. Когда наконец кончился этот коридор, а ещё один свернул под прямым углом, на этот раз не налево, а направо, что было невозможно с точки зрения геометрии, Пабст почти уверился, что они в какой-то момент вернулись и снова оказались в первом коридоре — трюк, который он сам часто использовал при долгой следящей съёмке.
Перемешивание искусства и жизни — единственная доступная героям амортизация травмы. Точно также его сын Якоб воспринимает рисование:
Уроки рисования Якобу нравятся. Он всегда любил рисовать, а с недавнего времени у него ещё и стало хорошо получаться. Фокус в том, чтобы смотреть на вещь, будто это не вещь, будто не знаешь, что это. Тогда она превращается в набор тёмных и светлых поверхностей, узор из света и тени, или даже не из света и тени, а просто из чёрного и белого, и если перенести этот узор на бумагу, на ней как по мановению волшебной палочки возникает та самая вещь: кружка, лист, рука, голова собаки.
Именно через это остранение через искусство он находит в себе силы к беспрекословному подчинению, ненависти и насилию. Так же остранённо, как будто со стороны, своё подчинение во время разговора с Геббельсом воспринимает и его отец:
Пабст задумался, простительно ли ответить «и я рад», достаточно ли это пустой оборот, но не успел решить, как услышал собственный голос, произносящий «и я рад!»
При этом герои вызывают скорее сочувствие, чем осуждение. Роман в целом не тяготеет к морализаторству: его пронизывает ощущение безысходности, попытки спрятаться внутри себя от ужаса и безграничного стыда, по-разному преследующего главных героев. Сам Пабст после утраты своего фильма практически перестал говорить; его жена Труди утратила любовь к нему и собственный смысл существования; их сын Якоб вернулся с войны раненый, поломанный психологически и лишённый своего художественного таланта.
Главная травма всего романа, которая открывает и закрывает действие, — беспамятство и стыд ассистента Пабста. Он спрятал шедевр великого режиссёра из-за невыносимого знания, что статистами в нём работали пленники концентрационного лагеря, среди которых был его детский домашний врач. Это можно назвать основным символом травмы от национал-социализма.
В описании рисования Якоба автор пишет:
То же и с цветом: только приглядись, и мир отступает, превращается в хаос, где нет ничего чистого и чёткого, где всё перетекает друг в друга. И если сможешь перенести это на бумагу, получается картина. Неплохо годятся цветные мелки, лучше акварель. Если по-настоящему присмотреться, замечаешь, например, что цвет тени зависит не только от того, на что она падает, но и от предмета, который её отбрасывает. Или видишь вдруг, что мир полон отражений: почти каждая вещь ловит своей поверхностью окружающий мир, пятна света, очертания, блики; в каждом изображении — ещё изображения.
Технику самого Кельмана можно описать примерно в тех же словах. Роман «Светотень», существующий на грани правды и вымысла, перспективы рассказчика и ускользающей морали, — не просто роман о национал-социализме и его ужасах, но это пронизанное грустной иронией рассуждение о хаосе, об отсутствии чистого и чёткого, о перетекании всего друг в друга, говоря словами самого автора.
Тем удивительнее кажется довольно однобокое восприятие этого романа в русскоязычном пространстве.
Тень
В послесловии к «Светотени» переводчица Александра Берлина рассказывает историю, как Кельман хотел издать роман в России, но пошёл на предложенный ей компромиссный вариант опубликовать книгу в маленьком и подчёркнуто антивоенном эмигрантском издательстве Fresh Verlag.
Александра Берлина рассуждает об особом значении романа для России, проводя параллели с сюжетом книги и рассуждая о том, как запрет на ЛГБТ пропаганду повлиял на российский рынок. Даже признавая, что «Светотень», скорее всего, никак не попала бы под этот закон (за исключением лёгких гей-намёков пленённого британского писателя, в книге совсем нет страшного для российских цензоров), переводчица через него приходит к напрашивающемуся сравнению России с Третьим рейхом. И всё бы ничего — но в этот момент роман Кельмана постепенно начинает превращаться в какую-то совсем другую книгу.
В большинстве рецензий на русский перевод так или иначе обыгрывается тема тоталитаризма в России и российской исторической травмы. Например, в обзоре Виктории Артемьевой «Светотень» сопоставляется с «Эйзеном» Гузель Яхиной. Сравнение двух современных друг другу гениев-режиссёров кажется довольно удачным. Кроме того, авторка рецензии демонстрирует глубину кельмановской техники и не выносит поверхностных моральных суждений. Однако сравнение с советской историей (на Эйзенштейна и его фильмы очень влиял лично Сталин) кажется лёгким перетягиванием Кельмана и его Пабста в наш контекст. Получилось удачно, но нужно ли это для понимания немецкой специфики и писательских особенностей Кельмана?
Но всё прочее ничто в сравнении с интервью русского Deutsche Welle с Кельманом. В нём писателя без иронии спросили, писал ли он сцену о немецкой эмиграции из Третьего рейха, на самом деле имея в виду российскую эмиграцию. Кельман дал вежливый ответ, что писал он это в 2021 году и совсем не претендовал на статус пророка и эксперта именно по России.
Но многие автоматически воспринимают существование его книги и её перевод на русский как какое-то скрытое высказывание. Судя по тенденции, многие хотят поместить Кельмана примерно в ту же категории иностранных писателей, что и Джонатана Литтелла — умное имя, мрачная обложка и чернуха про Третий рейх. Основная задача такой книги — громко и иносказательно стоять на полке российского книжного, чтобы уже и самый недалёкий понял: ребята, да у нас тут, как-никак, тоталитаризм!
Конечно, не надо напрочь отказываться от такого типа издательской игры. Наоборот, порой она очень даже хороша в условиях цензуры — и некоторые книги специально пишутся и издаются с целью такого непрямого высказывания. Например, всем совершенно очевидно, что книга Александра Баунова про диктатуры в Испании, Португалии и Греции на самом деле совсем не про Испанию, Португалию и Грецию. Вот тут игра автора, издателя и читателя в условиях цензуры сработала на ура. Но не до конца понятно, зачем создавать эту многослойность не в российском, а в эмигрантском издании. В том же Fresh Verlag в основном выходят критические тексты про современную Россию — нет никакой необходимости смешивать это с романом о Третьем Рейхе и создавать дополнительные ненужные смыслы.
Кроме того, такой подход сильно упрощает Кельмана. На самом деле, он живой, сложный и универсальный. Этот писатель вдохновляет как интеллектуала-германиста, так массового зрителя, который с удовольствием посмотрит один из фильмов по его книгам. Большинство его произведений совсем не о травматичных событиях прошлого — и уж тем более не про современную Россию.
Для русскоязычных читателей большое чудо и радость, что есть такая переводчица как Александра Берлина, способная находчиво обыграть все типично кельмановские фишки: размытые диалоги, переплетающиеся с мыслями и описаниями (прямую речь в непереводимом немецком коньюнктив айнц), тонкий межкультурный юмор (вроде кальки с английского на немецкий в «Светотени»), внутринемецкие приколы и многое-многое другое.
Осталось лишь научиться читать, а не «вчитывать». Вместо того, чтобы подтягивать под него повестку, хорошо бы получше передать малознакомому с его творчеством русскому читателю его дух: тонкого чёрного юмора и интеллектуальной сатиры (Ich und Kaminski); исторических приключений, шуток над культурными мифами немецкой нации и ощущения бескрайности разума и постижимого им мира (Die Vermessung der Welt); сложной техники рассказчика и разрозненных по времени и месту, но сплетённых по внутренней поэтике историй (Ruhm) и т. д. Даже по этим коротким описаниям видно, насколько многогранен Кельман. Важно не столько то, о чём он рассказывает, важно — как он это делает. И было бы классно это прочувствовать, а не сводить всё к проблемам нашего эмигрантского баббла.